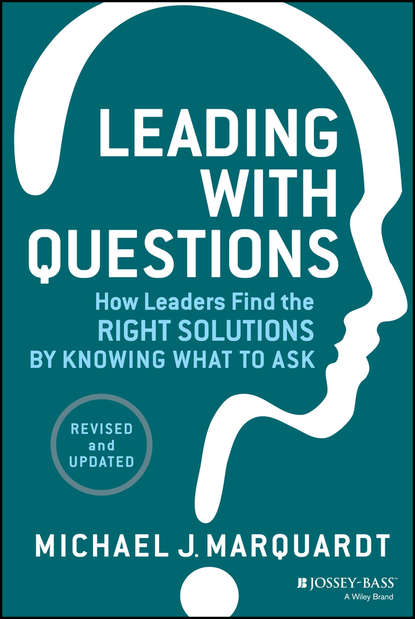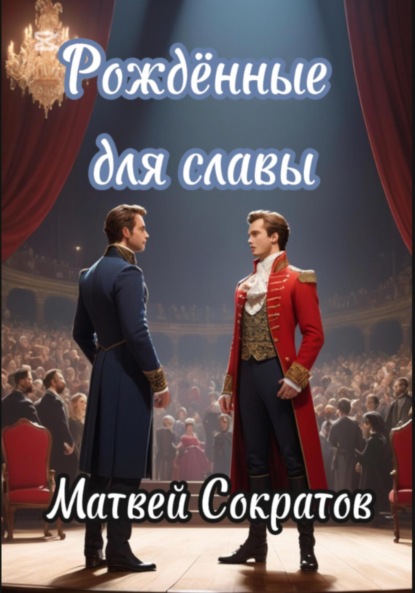Через строки этого романа, автобиографического труда, составленного молодым бунтарем Антонио Селлазаре, через призму его духовного преображения и взросления, читатели способны не только познать особенности социального и политического развития итальянского общества эпохи 1860-1870-х годов, когда страна только встала на путь государственного становления, но и найти ответ на вопрос - способен ли человек одной лишь клятвой, одной лишь силой мысли изменить не только личную судьбу, но и окружающую его реальность.
- Книги
- Аудиокниги
- Вебтуны
- Жанры
- Cаморазвитие / личностный рост
- Зарубежная психология
- Попаданцы
- Боевая фантастика
- Современные детективы
- Любовное фэнтези
- Зарубежные детективы
- Современные любовные романы
- Боевое фэнтези
- Триллеры
- Современная русская литература
- Зарубежная деловая литература
- Космическая фантастика
- Современная зарубежная литература
- Все жанры
- Бесплатные книги
- Блог
- Коллекции
- Серии
- Черновики
Вход В личный кабинетРегистрация