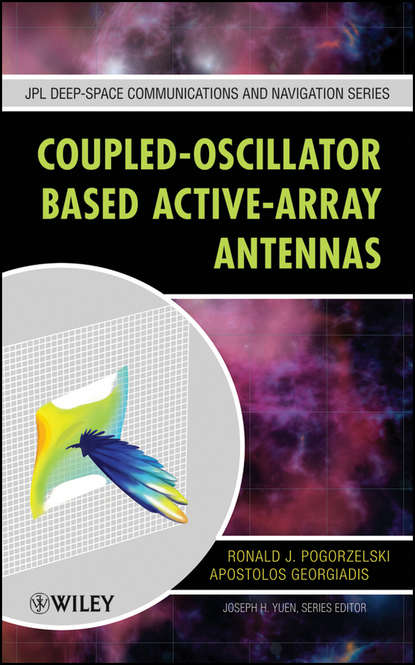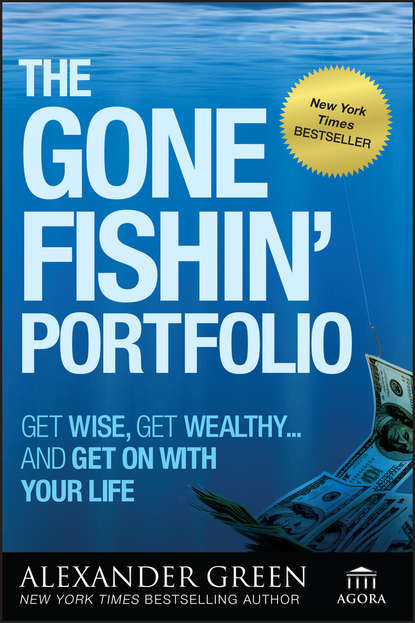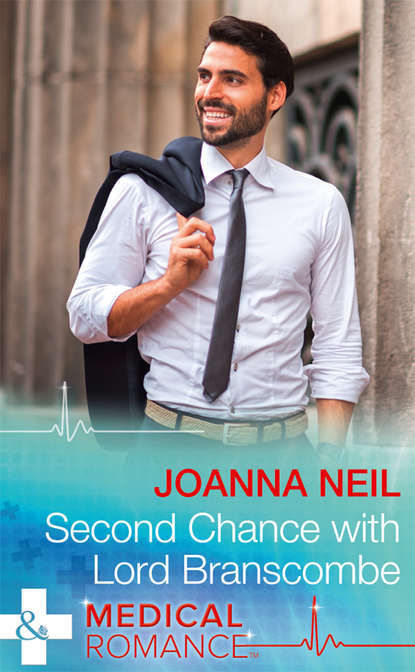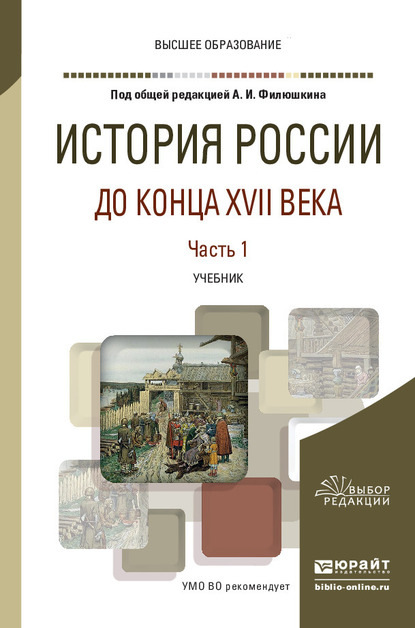- -
- 100%
- +

© Михаил Соловьев, 2025
ISBN 978-5-0067-9648-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Очень приятно отправлять такой роман в путь, даже само название отвечает писательскому сердцу, казалось бы, червь, но в этом есть и приятная ассоциация, именно в этом, настоящий писатель действительно схож с книжным червём, который медленно и часами, годами, ежедневно поедает нашу общую материю, которую мы называем нашей жизнью, в романе это название идёт с негативной реакцией, отвращением, но такова героиня романа, вещизм нового дня затмил глаза обывателя, если такое черветочение не приносит денег, благ, то этот червь, гадок, неприятен, но писатели, если и являются в глазах скудоумного обывателя червями, то они благородные черви, от которых исходит свет, потому что их нелёгкий труд, порой каторжный труд приносит знание, радость, счастье от пережитых эмоций, ведь писатель, как и актёр всё что поедает – если уж мы с этим сравниваем, пропускает через себя, через собственное здоровье, душу, он больше чем актёр, ведь он создаёт это, а подходов к своему детищу не один, два, три, как это бывает у актёров, а десятки, порой писательский труд – это превращается в каторгу, не имеющую конца – в отличие от актёра, который учит роль однажды, но эту каторгу он избирает сам, поэтому и писателями становятся немногие, поэтому и бытует такое выражение: Если можешь не писать, то не пиши. Пишут только те, кто не может не писать.
У Михаила Соловьёва есть главное, у него очень точное направление, направление настоящего писателя.
Он будет дарить жизнь прекрасным произведениям. А они будут дарить настоящую жизнь читателю. Его чистые помыслы. Его красивую душу
Роман написан легко, как и читается, просто и завязан на самых истребуемых человеком отношениях.
Он о чистой настоящей любви, о людях, которые не испугались обстоятельств и нашли себя и своё счастье в этом мире.
О большой любви.
И о писателе.
Много лет назад, когда страна захлёбывалась литературной макулатурой, развращающей, человека, вкусы, и многих уже начинало подташнивать от всего этого, я сидел в компании большого критика, в прямом смысле этого слова, декана кафедры критики литературного института им. Горького В. Гусева, мы говорили о большом упадке настоящей русской литературы, тогда он сказал, что похоже, читатель начинает уставать от всей этой непотребщины, что она перестаёт усваиваться, что придёт время и появятся новые писатели и первым бестселлером, который будет написан, будет тургеневская « Ася».
Это не тургеневская «Ася». Это только правильный выбор. Только радостно уже, что дождался. Мне выпала честь быть председателем жюри литературной премии «Союза писателей», и я рад, что именно я инициировал присудить автору первую премию 2018 года за лучший роман о писателе, у которого в данном романе появилась мечта о вершинах писательского мастерства, как, похоже, у самого автора, написать новый роман о Мастере и Маргарите.
Посмотрим.
Владимир Крымский. Писатель, член высшего Совета творческого мастерства профессиональных Союзов и общественных объединений и Литературной Палаты России.

Книжный червь
Глава первая «Новая школа»
Платон шёл домой из школы, прижимая к груди ранец, который казался ему больше и тяжелее, чем он сам. День выдался непростым – новая школа, новые лица, новые учителя. Всё казалось чужим. Даже двор у многоэтажки, куда семья недавно переехала, был пока непривычным: пахло свежей штукатуркой и пылью, дворники лениво сгребали листья, а ребята бегали, словно давно уже обжились.
Платон постоял у подъезда, не решаясь никуда идти. Но тишина квартиры казалась ещё более чужой, чем шум двора, и он, вздохнув, пошёл дальше.
На скамейке у песочницы сидел мальчишка с вихром на голове и держал в руках деревянную палку, которой рисовал линии на земле. Завидев Платона, он подскочил и, как будто давно его ждал, заговорил:
– Эй, я тебя видел сегодня в школе! Ты тоже в наш второй «Б» теперь ходишь?
Платон замялся, но всё же кивнул:
– Да… А ты – Петя?
– Угадал! – радостно воскликнул мальчишка и тут же шагнул ближе. – А я сразу понял, что ты новенький! Как только вошёл в класс, видно было: смотришь по сторонам, будто в лес попал.
Платон улыбнулся впервые за день.
– Просто всё новое… непривычно.
– Ну ничего, я тебе всё покажу, – уверенно сказал Петя, – где мяч прячем, где лучше за гаражи не ходить, и к какой учительнице лучше не попадаться без тетрадки.
Он говорил так оживлённо, что Платон невольно почувствовал: с этим мальчиком можно быть собой. Петя взял его за руку, словно старший брат, и повёл во двор, показывая качели, турники и даже угол, где «живёт» школьный котёнок.
– А теперь ты – мой друг, – подытожил он, когда они вернулись к песочнице. – И завтра пойдём в школу вместе.
Платон кивнул, и в душе у него стало тепло. День, начавшийся с тревоги, закончился так, что он впервые за долгое время почувствовал – он не один.
Шло время и ребята росли вместе с ним. Гоняли мяч во дворе с утра и до вечера, но про учебу не забывали. Однажды Петр принес в школу книгу отца.
Осень в тот год выдалась затяжной и дождливой. Дворы тонули в лужах, школьный звонок звучал гулко, словно через туман. Платон и Пётр сидели после уроков в пустом классе, ожидая, пока физрук откроет спортзал.
Пётр достал из портфеля потрёпанную книгу с тёмно-зелёной обложкой.
– Смотри, что я у отца взял, – сказал он с важным видом. – Достоевский. «Идиот». Слыхал?
Платон покачал головой:
– Нет… Звучит как-то странно. Про кого он пишет?
– Про князя, – Пётр перелистнул несколько страниц и начал читать вслух. Голос его звучал глухо в пустом классе:
«…князь Лев Николаевич Мышкин вошёл в комнату и остановился у двери, ожидая…»
Он читал увлечённо, с выражением, будто сам понимал каждое слово глубже, чем положено девятикласснику.
Платон слушал, затаив дыхание. Казалось, слова не просто звучат, а оживают в воздухе, заполняют его внутреннее пространство. Он словно видел перед собой этого странного князя, ощущал неловкость, доброту, его «лишнюю» чистоту для этого мира.
– Дай, – наконец попросил он. – Хочу сам почитать.
Пётр протянул книгу, и Платон осторожно, почти благоговейно провёл рукой по шершавой обложке.
С того дня всё изменилось. Платон начал ходить в школьную библиотеку, а вскоре и в районную читальню. Он перелистывал страницы «Бесов», «Братьев Карамазовых», «Преступления и наказания» – словно искал ответы на вопросы, которые давно сидели у него внутри.
Часто они с Петром сидели допоздна, обсуждая прочитанное. Петя горячо спорил, иногда даже стучал кулаком по столу, а Платон больше слушал, впитывал, и лишь потом тихо произносил:
– Знаешь… ведь правда в том, что человек слаб. Но в этой слабости и есть что-то божественное.
Пётр смеялся, махал рукой, но в глазах его светилось уважение.
Так, через Достоевского, их дружба стала глубже – не просто дворовой, а настоящей духовной. Для Платона же книги стали больше, чем занятием: они превратились в его судьбу.
Глава вторая «От игры и до судьбы»
Саша росла тихой и серьёзной девочкой. В то время, когда другие играли в куклы, она перевязывала их «бинтами» из разорванных простыней, ставила игрушечным зайцам «уколы» и строго следила, чтобы пациенты «соблюдали режим». В её детской комнате всегда стоял маленький чемоданчик с пластмассовым стетоскопом и тетрадкой, где аккуратным почерком она записывала диагнозы.
После девятого класса выбор казался очевидным – она поступила в медицинское училище на фельдшерское отделение. Учёба давалась ей легко, но главное – нравилось чувствовать себя нужной: помогать в поликлинике, ездить с практикой на «скорой», впервые видеть живые глаза тех, кому облегчала боль.
Когда подошло время выпуска, Саша вдруг стала необычайно твёрдой в своём решении. Родные пытались отговорить её, преподаватели качали головами, но она настояла: хотела не просто лечить в тишине кабинета, а быть там, где боль и смерть рядом, где помощь особенно нужна. Она написала заявление о зачислении в ряды добровольцев и отправилась на войну в Чечню.
Там, среди выстрелов и тревог, в палатках и перевязочных пунктах, её детская игра в «доктора» обернулась настоящей судьбой.
На войне Саша быстро перестала быть девочкой – там некогда было бояться или колебаться. Она оказывалась в самой гуще событий: вместе с санитарной группой вытаскивала раненых бойцов с поля боя. Под свист пуль и гул разрывов она, стиснув зубы, ползла к тем, кто звал на помощь, и тянула их за воротники бронежилетов, за ремни, иногда буквально на себе вынося тяжёлых мужчин.
В перевязочном пункте руки её работали уверенно, хотя сердце сжималось от каждого стона. Она обрабатывала раны, ставила капельницы, зашивала разрывы ткани, слушала, как сбивчиво шептали «спасибо» те, кому ещё вчера было всего двадцать лет.
Больше всего Саша ненавидела моменты, когда все усилия оказывались тщетными. Она сидела рядом, держала за руку, пока жизнь уходила. Потом долго не могла заснуть – прокручивала в памяти, не упустила ли чего-то, можно ли было сделать больше, быстрее, иначе. Она старалась не показывать своей боли, но каждая смерть оставляла внутри незаживающий след.
И всё же, утром она снова вставала, снова шла туда, где звали. Потому что знала: без неё эти парни не выживут.
Ночь рвалась на части грохотом миномётов. В наушниках рации коротко пронеслось: – «Раненый! На позиции у посадки!»
Саша, не раздумывая, схватила медицинский рюкзак и кинулась вперёд вместе с бойцами прикрытия. Земля тряслась под ногами, вспышки освещали перекошенные лица. Она почти ползком добралась до тёмного силуэта – молодой солдат лежал, прижав руку к боку, кровь тёплой волной пропитывала его форму.
– Держись, слышишь? Сейчас вытащу! – почти закричала она, перекрывая вой снарядов.
Он попытался что-то сказать, но вместо слов вырвался хрип. Саша поднырнула под его руку, зацепила за плечо и, напрягая все силы, потащила назад. Каждый метр давался мучительно, рюкзак бил по спине, ноги вязли в глине. Казалось, что пули свистят слишком близко, но она упрямо повторяла про себя: «Только бы дотащить… только бы успеть».
В медпункте свет лампы резанул глаза. Саша тут же перерезала ткань на боку бойца, увидела глубокое рваное ранение. Руки сами находили нужные движения: зажим, вата, йод, жгут. Кровь текла бесконечно, будто всё её упорство мало что значило.
– Ты не смей умирать, слышишь? – шептала она, даже не замечая, что губы дрожат.
Она боролась за него всю ночь: меняла повязки, следила за дыханием, капля за каплей вводила обезболивающее. Каждый его стон она воспринимала так, словно резали её саму. Утром, когда он открыл глаза и прошептал: «Спасибо, сестричка», – Саша впервые за долгое время позволила себе улыбнуться.
Но вечером в соседней палатке другой парень не дожил до рассвета. Саша сидела у его койки, держала руку, что постепенно холодела, и чувствовала, как внутри снова что-то ломается.
Она знала: завтра всё повторится. И всё равно встанет. Потому что иначе – нельзя.
Глава третья «Проводы»
Простым осенним днем, холодным, с моросью. Петр провожал Платона из увольнения, обратно в армию. Платона уже уведомили о том, что как он прибудет в расположение части, его роту направят на войну в Чечню. Друзья знали, что могут больше не увидится никогда от этого им было еще тоскливее расставаться. Они сидели на том же вокзале, на котором чуть больше месяца назад Петр с радостью встречал Платона, который приехал в отпуск. Они сидели на этом уже родном вокзале, со сквозняками, запахом кофе, доносившимся из кафе и голосом диктора:
«Поезд до Казани отправляется с третьего пути…»
Петр с Платоном сидели на скамейке. Платон держал в руках билет на поезд, смотрел на него и молчал.
– Долго думал, что сказать, – начал Петр. – Но, похоже, всё, что хотел, уже забыл. – Ничего не говори, – сказал Платон. – Просто сиди.
И они сидели.
Петр был в новой куртке. Мать ему купила. Такая, знаешь, «солидная» – будто бы от неё меньше мерзнешь и взрослеешь быстрее. А Платон в военной форме с серьёзным лицом, а глаза – те же. Мокрые, но не от слёз. От ветра, наверное.
– Будешь писать? – спросил Петр. – Только если дашь бумагу, – усмехнулся Платон.
Петр сунул ему блокнот. Тот самый, в котором они когда-то писали придурочные стишки и рисовали рожи училке по физике. Платон взял. Потрогал обложку.
– Спасибо, – сказал. – Не за блокнот. За то, что ты есть.
Пете стало не по себе. Он не привык, когда он такой – без иронии, без слов-щита. Настоящий. – Вернёшься – вернёшь, – пробормотал Петр. – А если нет – я этот блокнот продам на аукционе как рукопись великого писателя.
Платон засмеялся. По-настоящему. Вокзал стал теплее от этого. На перрон подали поезд. Платон встал. Поднял сумку. Повернулся.
– Петя… – Ага? – Не давай себя в обиду. Даже себе самому и соглашайся на ГАИ, которое тебе предлагает твой отец.
Петр сквозь слезы кивнул. А потом смотрел, как он уходит. Молодой солдатик, с впалыми щеками и голубыми глазами. Как растворяется среди людей, форм, фуражек, сумок, хлопков по плечу. Платон удалялся все дальше и дальше от своего друга детства. Когда поезд тронулся, и Платон уехал, Петр продолжал стоять и смотреть, пока поезд не скрылся совсем. Потом пошёл домой. Под дождём. Молча. Дома снял ботинки. Поставил чайник, вскинул на верх правой рукой свою длинную чёлку и окрикнул отца:
– Папа, я готов идти к тебе в ГАИ.
Глава четвертая «Грозненские дни»
Каждый день для Платона в Грозном начинался одинаково – с тревоги, которая никогда не отпускала. Даже если ночью удавалось заснуть на пару часов, то просыпался он всегда в полусне, настороженный, готовый к резкому окрику или взрыву. Город жил войной: стены домов были изрешечены пулями, улицы завалены кирпичами, а воздух пропитан гарью и напряжением.
Физически было тяжело с самого начала. Ноги наливались свинцом после бесконечных марш-бросков по заваленным кварталам, бронежилет впивался в плечи, а автомат казался продолжением руки – тяжёлым, но необходимым. Иногда казалось, что тело отказывается слушаться: руки дрожали, когда он заряжал магазин, глаза слепались от усталости, желудок сжимался от сухого пайка.
Но куда труднее было морально. Каждый день он видел смерть. Сначала это ошеломляло – чужие тела на улицах, обугленные машины, плач женщин, которые прятались в подвалах. Потом взгляд будто привык, но сердце не могло смириться. Вечерами Платон сидел у стены полуразрушенного дома, курил и смотрел в пустоту, думая о том, что до войны он был просто парень с книгами и тетрадями, а теперь – солдат, вынужденный стрелять, чтобы самому остаться живым.
С товарищами держались вместе, потому что иначе было невозможно. В бою они становились братьями: плечом к плечу, прикрывая друг друга. Но и это превращалось в пытку, когда кто-то не возвращался. Платон слишком остро переживал каждую потерю. Он старался не показывать этого, но внутри его словно разъедала вина: «Может, мог спасти? Может, мог прикрыть?» Эти вопросы не давали покоя ночью, когда тишину вдруг пронзал далёкий выстрел и сердце вздрагивало от боли воспоминаний.
Особенно тяжело было входить в бой в городской застройке. В каждом окне мог сидеть снайпер, за каждым углом – мина. Дома, где ещё недавно жили семьи, теперь становились ловушками. Платон шагал осторожно, держа автомат наготове, и каждый раз, заходя в подъезд, чувствовал, как сердце бьётся так, что гул отдаётся в висках.
Иногда они занимали позиции в развалинах и ждали часами. Тогда он вспоминал детство, школьные уроки, лица близких. Эти воспоминания становились единственной защитой от ужаса происходящего. Он ловил себя на том, что мысленно читает строки из любимых книг, будто оттуда, из другого, мирного мира, приходила поддержка.
Но как бы тяжело ни было, Платон продолжал идти вперёд. Каждый новый день становился испытанием, но он выдерживал его. И сам себе удивлялся: «Я не думал, что смогу. Не думал, что окажусь здесь и выживу».
Война в Грозном не щадила никого – ни телом, ни душой. Она отнимала у людей прежние лица и привычные мысли, превращала их в тех, кто знает цену каждому вдоху. И Платон понимал: каким бы он ни вернулся домой, прежним он уже не будет никогда.
Тот день пах металлом. Не гарью, не смертью – именно металлом. Как будто весь воздух пропитался медью, ржавчиной, солдатским потом и криками, которые не до кричали. Чечня. Девяносто девятый. Грозный. Район без названия – потому что улицы давно потеряли свои таблички. Только выжженные окна, обвалившиеся подъезды и тишина, в которую врывались одиночные очереди.
Платон шёл в связке. Три человека. Один – старший, двое – на прикрытии. Приказ был простой: «проверить дом». Но дом оказался живым – с подвалом, с выстрелом, с тенью в окне. Бахнуло. Резко, близко. Он даже не понял сначала. Просто лёг. Сам по себе. А потом – боль. Резкая, как тряпка со стеклом. Справа. Ниже рёбер. Кто-то кричал его имя. Кто-то отстреливался. Он пытался подняться – не мог. И тогда она. Саша. Медсестра. Только пришла. Руки тряслись, но не отпускали. Она втащила его с площади под обстрелом, как будто тащит брата. Или икону. Он не помнил, как кричал. Помнил только её глаза. Голубые. Как небо в другой жизни. В госпитале пахло марганцовкой и хлебом. Он открыл глаза – и снова увидел её. Она стояла, вытирала руки. Волосы под платком. Синяк под глазом.
– Ты живой? – спросила. – Пока да, – хрипло ответил он, бок и все плывет.
Она кивнула. Подошла. Села рядом. – У тебя чистый бок. Пуля прошла навылет. Повезло.
Он усмехнулся. Снова посмотрел на неё. На эти глаза. И что-то щёлкнуло. Не в сердце. Глубже. Как будто он узнал её раньше, чем она себя.
Она выхаживала его три дня. Подносила воду. Молчала. Смотрела – долго, как будто что-то искала.
Он однажды сказал:
– Чего ты смотришь? – У тебя глаза, как лёд. – Холодные? – Нет. Прозрачные. Там всё видно. – А ты чего там ищешь? – Себя, наверное.
За день до перевода в Москву, Платон лежал на жесткой койке, укутавшись в серое одеяло, и с трудом различал белый потолок сквозь пелену слабости. Боль отдавалась в каждой клетке, а вокруг слышались стоны, шорохи перевязок, шаги по коридору.
Дверь открылась тихо, и в палату вошла опять Саша. На ней был простой халат, ее светлые волосы были собраны в узел, лицо усталое, но очень красивое. Она двигалась быстро и уверенно в её жестах ощущалась забота.
– Здравствуйте, – сказала она тихо, подходя к его койке. – Как себя сегодня чувствуете? Мне сказали, что стало хуже.
– Жив, – выдавил Платон с натянутой улыбкой. – Уже неплохо.
Она посмотрела на него внимательнее, и в её глазах мелькнуло что-то вроде удивления.
– Улыбаешься, несмотря на боль? Не каждый так может.
Он хотел ответить, но заметил, как её руки уверенно меняют повязку, и слова застряли в горле. Было странное ощущение: словно он знает её давно, она напоминала маму…
– Простите, как вас зовут? – спросил он.
– Напоминаю – Александра, – коротко ответила она, и уголки её губ дрогнули.
– Саша… – повторил он, будто пробуя имя на вкус. – А я – Платон.
Она кивнула, поправила одеяло и собралась идти дальше, но вдруг остановилась.
– Не сдавайтесь.
В её голосе было нечто большее, чем профессиональная забота. Это было тепло, которого ему так давно не хватало.
Когда дверь за ней закрылась, Платон впервые за много дней закрыл глаза не от боли, а от тихой надежды.
Потом была эвакуация. Его отправили в Москву, а она осталась там, где была сейчас очень нужна. Он не попрощался, все произошло настолько быстро, что он просто не успел. Вырвал из своего блокнота лист и оставил на ее столе:
«Ты вытащила не только меня. Ты вынула сердце из пепла. Береги его – Платон.»
Военный госпиталь в Подмосковье – уже не фронтовая больничка, но ещё далёк от тишины. Платон ковылял по коридору на костылях: бок стягивала плотная повязка, каждый вдох напоминал – живой, но валиться нельзя. В палате пахло йодом, хлебом и… скукой. Чтобы не сойти с ума, он стал переписывать больничные журналы:
– «Дата приёма», «температура», «назначено»… Чернила растекались, ординаторы писали на бегу, а он выправлял буквы, вытягивал оборванные фразы – словно зашивал чужие раны строчкой к строчке. Когда текст распрямлялся, дышать становилось легче. Так и пришла мысль: исправлять слова – тоже спасать, только не тела, а смыслы.
Выписали его весной. Мир встречал холодной капелью и апрельским светом, в котором всё казалось новым – даже московская слякоть. В очереди за талонами в поликлинику он заметил девушку в длинном сером пальто: высокая, темноволосая, сосредоточенно читала что-то мелким шрифтом. Книга оказалась наоборот – Светлана держала лист лабораторных анализов и пыталась разобраться в каракулях.
– «Дайте гляну? Корректорское любопытство…» – улыбнулся он и одним движением расшифровал почерк. Она рассмеялась; смех был низкий, тёплый, совсем не похожий на нервный госпитальный шёпот. Потом был чай в буфете, разговор «ни о чём» и впечатляюще лёгкое чувство – будто они знакомы с детства.
По ночам Платон всё ещё слышал, как на чеченской площади медсестра Саша шептала: «Держись, голубоглазый». Отголосок боли тянул за сердце, но был далёк – как выгоревшая фотография. Он искал письма, но почта молчала. А Светлана – живая, рядом, с горячими ладонями и городской прямотой. Она говорила о будущем в настоящем времени, будто у них уже есть общий дом и утро.
Работу он нашёл через знакомого капитана, который лежал с ним в одной палате: корректор в районной типографии. Первые дни нюхал типографскую краску и думал: «Здесь меньше крови, но той же тяжести ошибок». Каждая исправленная запятая была маленькой победой над хаосом. Сашина тень постепенно отступала; не исчезала, но принимала форму тёплой благодарности. Бог, наверное, хранит среди нас разных – тех, кто вытаскивает из огня, и тех, кто остаётся, когда пожар кончился.
Через полгода Платон пришёл с букетом простых ромашек:
– «Света, я всё ещё учусь ходить без костылей, но с тобой шаги легче. Выходи за меня».
Она ответила без пафоса, как ставит чайник: – «Давай попробуем. Только жить будем честно, ладно?»
Он согласился – не потому, что разлюбил медсестру из сна, а потому, что понял:
Любовь – это не забыть прошлое, а суметь держать за руку то, что Бог даёт сегодня.
Так Платон поменял окопы на буквы, а эхо войны – на стук типографских машин, и ещё не знал, что, когда-нибудь эти машины напечатают его собственный роман исповедь – «Книжный червь».
Глава пятая «Как будто всё было не со мной»
Май. Опять май. Пятнадцать лет прошло, а на скамейке у подъезда всё те же старики, что обсуждали тогда Путина, теперь обсуждают погоду и давление.
Платон открыл окно и глубоко втянул воздух. Весна пахла сиренью, сырой землёй и чем-то ещё… Наверное, возрастом. Он поправил очки, надел рубашку – аккуратную, свежую – и прошёл на кухню. На столе лежала газета – не вчерашняя, не сегодняшняя, а вся его жизнь. На ней – сигареты жены и чашка. Уже не дымится.
Позвонили в дверь.
– Ну, наконец-то, а то я подумал, что уже вас не дождусь, – высказал Платон.
– Извини, немного запоздали, – ответили вошедшие.
– Это правда? – поинтересовался Петр.
Петр стал чуть полноватым человеком. Волос на голове Петр теперь не носил, он их предпочитал брить вместе с лицом, утверждал, что так легче мыслить, ничего не давит на мозг. Он был очень добрым и отзывчивым, особенно в отношении своих друзей.
– Что правда? – переспросил Платон.
– То, что мне сказал Семен, – продолжил Петр.
– Да, это правда, нас действительно отправили на все лето за свой счет.
– Водку, как обычно, в морозилку? – перевел разговор Петр.
– Конечно! Ты же знаешь, я теплую не пью, – ответил Платон.
Платон при ответе сморщил лоб, он всегда так делал, когда ему что-нибудь не нравилось. Свои белоснежные волосы, Платон зачесывал на левую сторону. Брови на его переносице были сросшиеся, но это его совершенно не портило, а наоборот, делало еще более брутальным. Одну бровь он умел в момент сморщивания своего лба поднимать наверх и таким образом казаться свирепей.
– Сеня, режь колбасу, а я пока достану рюмки и нарежу фруктов, – продолжил Платон.
Как только друзья сели за стол, за окном поднялся сильный ветер, и молния озарила весь двор.