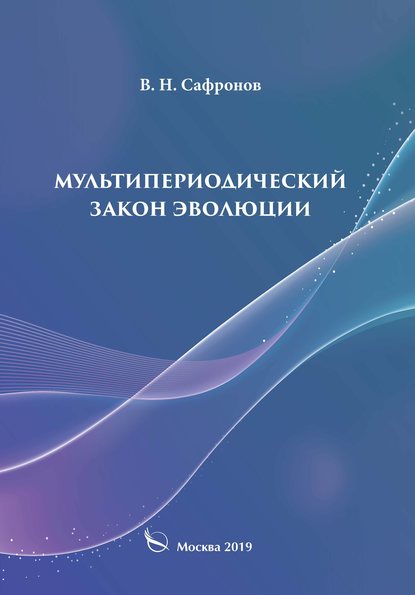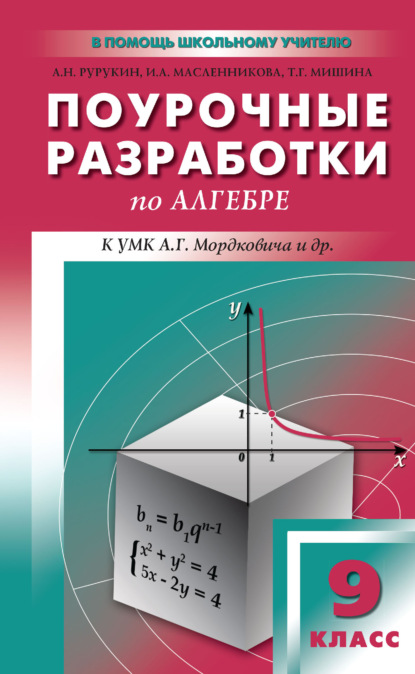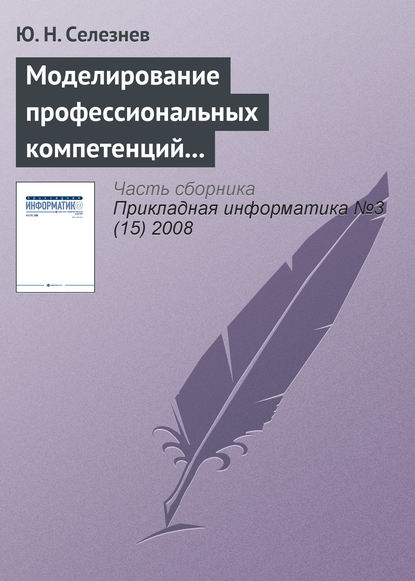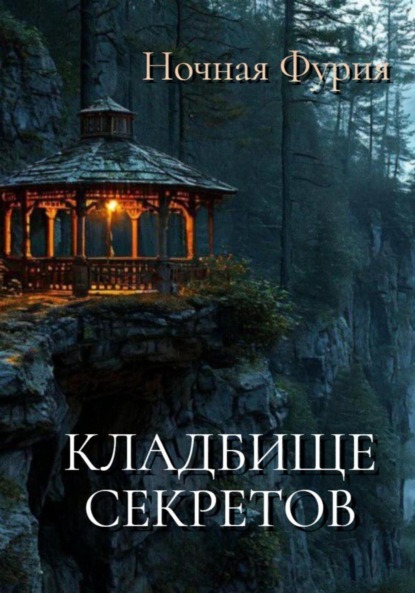Код целостности
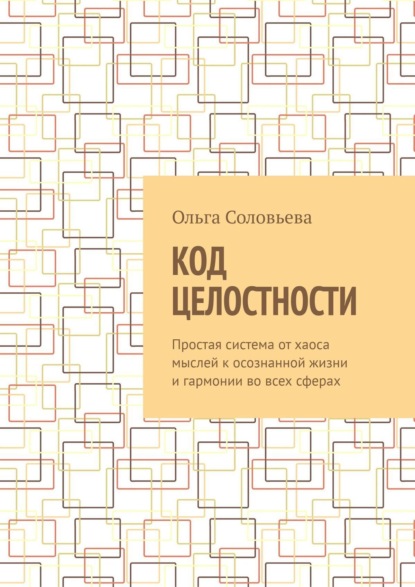
- -
- 100%
- +
Ценность «Счастливая семья». Для одной женщины это означает проводить вместе с мужем и детьми все выходные, активно и шумно отдыхая. Для ее мужа, интроверта, ценность «счастливая семья» материализуется как возможность молча читать книги в одном помещении с близкими, наслаждаясь тишиной и ощущением присутствия. Их общая ценность ведет к конфликту, потому что каждый наполняет ее своим конкретным содержанием, не видя разницы между абстракцией и ее воплощением.
Ценность «Свобода» у молодого человека. Он записывает ее в дневник как основную. Но что она значит? Свобода от обязательств? Тогда он отказывается от долгосрочных отношений и проектов на работе, чувствуя легкость. Или свобода для самореализации? Тогда ему, наоборот, нужны стабильные отношения как надежный тыл и долгосрочный контракт для финансирования своих проектов. Некритичное следование абстракции без ее расшифровки может завести его в тупик одиночества и неустроенности.
Следовательно, работа с абстрактными ценностями без их претворения в жизнь – это как попытка собрать сложный конструктор, имея на руках только красочную картинку-упаковку, но без самой инструкции по сборке. Вы видите идеальный, прекрасный конечный образ: замок, корабль, космический корабль. Вы страстно хотите его получить (ваша ценность). Вы можете долго смотреть на эту картинку, вдохновляться ею, носить ее с собой. Но как только вы открываете коробку, вас ждет груда сотен бесформенных деталей (ваша повседневность). Без пошагового руководства, которое объясняет, какую деталь к какой присоединить, вы будете просто перебирать их в руках, испытывая все большее разочарование и злость на себя («Я не могу собрать даже это!»). В итоге прекрасный образ на коробке будет лишь подсвечивать вашу неудачу, превращаясь из источника мотивации в источник стресса. Дневник ценностей часто дает вам эту картинку, но редко предоставляет инструкцию.
Эта фундаментальная, имманентно присущая ценностям абстрактность создает в психике человека почти непреодолимый и болезненно переживаемый разрыв. Это пропасть между высоким, почти сакральным планом провозглашенных идеалов и низким, приземленным, наполненным компромиссами и рутиной планом повседневного существования. Человек может искренне, с полной уверенностью и горячим желанием измениться записать в свой дневник на самой первой странице, что одной из его главных и незыблемых ценностей является «здоровье», но при этом в своей реальной жизни продолжать вести сугубо малоподвижный образ жизни, регулярно питаться фастфудом на бегу, систематически не высыпаться, заглушая стресс вредными привычками.
Этот вопиющий разрыв между декларацией и реальными поступками не просто констатирует факт, он порождает мощнейший и разрушительный внутренний конфликт. В психике возникает противоборство между идеальным «Я» (тем образом себя, который следует своим ценностям, бегает по утрам и ест салат) и реальным «Я» (тем, кто ежедневно, своим бездействием или неправильными действиями, эти ценности предает, покупая на ужин пиццу). В результате вместо обещанных методикой внутренней опоры, гармонии и уверенности человек получает новый, изощренный источник перфекционистской тревоги, гнетущее чувство вины и стыда за свое хроническое «несоответствие» собственным же высоким стандартам. Приведем примеры из повседневной жизни:
Ценность «Творчество»:
– Идеальное «Я»: автор бестселлера, чьи картины выставляются в галереях, кто каждую свободную минуту посвящает созиданию.
– Реальное «Я»: после тяжелого рабочего дня человек падает на диван и листает ленту соцсетей, покупая очередной курс по рисованию, который так и не откроет. Каждая неиспользованная минута для творчества подсвечивает разрыв, а купленный и пылящийся холст становится немым укором, усиливая чувство собственной несостоятельности.
Ценность «Семья»:
– Идеальное «Я»: идеальный родитель, который всегда внимателен, терпелив, участвует в жизни детей, организует развивающие досуги.
– Реальное «Я»: родитель, который, устав на работе, срывается на ребенка из-за пустяка, вместо совместной игры включает ему мультфильмы, а сам сидит в телефоне. Вечер заканчивается чувством вины за свой крик и осознанием, что ценность «семья» снова принесена в жертву усталости и раздражению.
Ценность «Профессиональное развитие»:
– Идеальное «Я»: эксперт своего дела, который в курсе всех трендов, постоянно учится, посещает вебинары и уверенно движется по карьерной лестнице.
– Реальное «Я»: сотрудник, который выполняет минимум, боится брать сложные проекты, откладывает изучение нового языка программирования на «понедельник», а вместо вебинара смотрит сериал. Мысль о том, что коллеги «уже давно все освоили», вызывает не мотивацию, а тревогу и самобичевание.
Этот внутренний конфликт подобно тому, как если бы дирижер великого симфонического оркестра (ваше Идеальное «Я») пытался бы исполнить сложнейшую, прекрасную симфонию Бетховена (ваша система ценностей), но при этом музыканты в его оркестре (ваши повседневные привычки, действия и поступки) были бы глухи, играли бы на расстроенных инструментах и знали лишь три простых аккорда.
Дирижер отчаянно машет палочкой, пытаясь добиться гармонии, но вместо нее раздается какофония и диссонанс. Чем прекраснее и грандиознее звучит музыка в голове дирижера, тем невыносимее для него фальшь и убогость реального звучания. Он слышит этот разрыв каждый день, и это не мотивирует его – это повергает его в отчаяние и заставляет сомневаться в своем праве вообще стоять за пультом. Дневник ценностей в этом случае лишь дает дирижеру партитуру великого произведения, но не учит его музыкантов слушать и играть.
На практике это выглядит как история клиента, который в своем «Колесе баланса» оценил сферу «Семья» на низкий балл. Осознав ценность «любви и близости», он принял решение проводить с женой и детьми больше времени. Однако его понимание «проведения времени» сводилось к физическому присутствию дома в то время, как его мысли были заняты рабочими проблемами. Совместный вечер перед телевизором, где каждый погружен в свой гаджет, не удовлетворял потребность в глубокой эмоциональной связи ни его, ни членов его семьи. В результате его усилия не были оценены, что привело к фрустрации, чувству несправедливости и выводу: «Я стараюсь, следую своим ценностям, но ничего не меняется к лучшему». Ценность так и осталась красивой абстракцией, не наполнившись конкретными, осмысленными и технологически выверенными действиями.
Следующей коварной опасностью, подстерегающей неопытного или чрезмерно усердного пользователя дневника ценностей, является малоизученный, но весьма разрушительный феномен, который можно метафорически обозначить как «ценностный паралич» или «экзистенциальный дзен». Это состояние представляет собой форму интеллектуальной и эмоциональной ловушки, в которую попадает человек, подменивший сам процесс жизни бесконечным, изматывающим анализом ее оснований.
Он погружается в интенсивный, почти навязчивый и цикличный поиск «идеальных», «истинных», «абсолютно правильных» и философски безупречных ценностей. Этот перфекционистский квест полностью подменяет собой реальные действия, жизненную практику и любой поступательный движение вперед. Человек оказывается в плену бесконечной рефлексии: он постоянно переписывает, редактирует и пересматривает свой список, составляет сложные иерархии, которые на следующий день кажутся ему неверными, сравнивает свои ценности с чужими, найденными в книгах или блогах, читает философские трактаты и психологические исследования в тщетной надежде найти единственно верные, окончательные ответы.
Но вся эта титаническая мыслительная работа приводит не к просветлению, а к аналитическому ступору, полной интеллектуальной перегрузке и неспособности сделать даже если самый простой выбор. Он становится похожим на картографа, который одержим идеей создать идеальную, абсолютно точную, с безупречным масштабом и выверенной до миллиметра карту местности, но при этом настолько боится неточностей, что никогда не выходит из своего кабинета, чтобы совершить хотя бы самое маленькое путешествие. В результате его карта, даже если бы она была идеальна, абсолютно бесполезна, а жизнь проходит мимо. К примеру:
Выбор карьеры. Выпускник университета уверен, что его призвание должно идеально соответствовать ценностям «самореализация», «польза обществу» и «творчество». Вместо того чтобы устроиться на какую-либо работу и проверить свои гипотезы на практике, он месяцами составляет таблицы, сравнивая профессии по степени их «творчевости» и «полезности». Он читает биографии известных людей, пытаясь понять, какой путь «истинный», и в итоге не делает ни одного шага, погрязнув в сомнениях и страхе выбрать «не ту» ценность как главную.
Отношения. Человек хочет создать семью и определяет для себя ключевые ценности: «взаимное уважение», «духовная близость» и «общее развитие». На каждом свидании он мысленно сверяет партнера с этим идеальным, но абстрактным списком. Один кандидат не достаточно развит, другой – не разделяет его взгляды на искусство, третий – кажется недостаточно уважительным. Вместо того чтобы погрузиться в живые, настоящие отношения и проверить, рождается ли связь на практике, он отвергает всех за несоответствие идеальной карте, так и оставшись в одиночестве.
Базовые решения. Даже поход в магазин за продуктами может превратиться в ценностную пытку. Что купить: местные овощи (ценность «экологичность» и «поддержка местного производителя») или дешевые импортные (ценность «экономия»)? Органическую курицу («здоровье») или обычную («бережливость»)? Человек с «ценностным параличом» будет стоять у полки, испытывая внутренний конфликт и тревогу, боясь принять неидеальное с точки зрения его сложной системы ценностей решение.
В результате, «ценностный паралич» – это желание построить абсолютно точный и идеально откалиброванный GPS-навигатор для предстоящего путешествия, потратив на это годы. Вы изучаете карты, вносите тысячи поправок, спорите с алгоритмами, пытаясь учесть каждую кочку и каждое возможное изменение погоды. Но само путешествие так и не начинается, потому что вы боитесь, что первый же поворот, не предсказанный вашей идеальной системой, докажет ее несовершенство. В итоге вы – владелец самого совершенного в мире навигатора, который никогда не включался, и ваша жизнь – это гараж, в котором вы его бесконечно чините, в то время как другие уже давно в пути, сверяясь с простыми и неидеальными, но работающими картами.
Этот изнурительный паралич, останавливающий саму возможность действия, коренится не в лени, а в глубоком, почти экзистенциальном страхе. Это страх совершить роковую ошибку, выбрать «не ту», «фальшивую» или «недостаточно правильную» ценность и, как следствие, потратить драгоценные годы, а то и всю жизнь, на то, чтобы прожить «не свою», чужую или ошибочную жизнь. Этот страх не просто мешает решиться – он парализует саму волю, заставляя человека считать, что лучше вообще не двигаться, чем пойти в неверном направлении.
Этот внутренний конфликт порождает чрезвычайно высокий, изматывающий уровень тревоги и ощущение полной экзистенциальной неопределенности. Человек оказывается в подвешенном состоянии, в вакууме, где любой возможный путь кажется одновременно и притягательным, и потенциально губительным. Он оказывается в ловушке той самой свободы, о которой так ярко писал Эрих Фромм: «Современный человек, освободился от оков доиндивидуалистического общества, которое одновременно давало ему безопасность и ограничивало его, не приобрел свободы в положительном смысле, то есть реализации своей личности»7. Мы избавились от внешних диктатов, но не обрели внутренней силы для подлинного самоопределения.
И здесь возникает главная ирония: дневник ценностей, изначально призванный стать инструментом обретения этой самой свободы, осознанного выбора и авторства своей жизни, в данном извращенном сценарии превращается в свою прямую противоположность. Он становится изощренным инструментом бегства от свободы, новым догматическим костылем, очередной клеткой. Он создает иллюзию, что где-то существует идеальный, единственно верный список ценностей, и если его найти, то он волшебным образом снимет с человека непосильное бремя ответственности за конечный, необратимый выбор и его пожизненные последствия. Человек ищет уже не ориентиры для пути, а готовый рецепт идеальной судьбы, который избавит его от муки выбора. Вот некоторые примеры.
Выбор карьеры. Выпускник престижного вуза месяцами не может устроиться на работу. Он составляет бесконечные списки своих ценностей: «интересные задачи», «высокий доход», «социальная значимость», «гармония с коллективом». Он ищет в интернете отзывы, пытаясь найти компанию, которая на 100% воплотит этот идеал. Любое предложение работы он отвергает, находя в нем изъян: здесь платят мало, а там скучные задачи. Его паралич вызван страхом: выбрать одну ценность (деньги) и предать другую (интерес), а через 10 лет осознать, что он «продал душу» и прожил не свою жизнь. В итоге он остается без опыта, погрязнув в анализе и тревоге.
Создание семьи. Молодой человек хочет семью, но не может сделать предложение своей девушке. Он постоянно рефлексирует: та ли это «любовь всей его жизни», соответствует ли она его ценностям «духовной близости» и «абсолютного доверия»? Он ждет какого-то знака, полного и безоговорочного совпадения всех параметров, чтобы гарантированно не ошибиться. Его страх – не выбрать «ту самую», а потом осознать, что он связал жизнь «не с той» женщиной и упустил свой настоящий шанс. Это бегство от свободы выбора и ответственности за него под маской ее поиска.
Базовые решения. Даже выбор хобби или книги для чтения может обернуться ценностным параличом. Человек стоит в книжном магазине и не может купить ни одну книгу. Ведь его время – ценность, и он боится потратить несколько часов на «недостойную» книгу, которая не обогатит его интеллектуально или духовно на все 100%. Он ищет в сети рейтинги, рецензии, пытаясь найти идеальное произведение, которое точно не разочарует. Его бездействие – это попытка снять с себя ответственность за возможную «ошибку» и потраченное впустую время.
Это напоминает поведение человека, который стоит перед шведским столом, ломящимся от изысканных блюд (множество жизненных выборов и ценностей), но умирает от голода. Он не может приступить к еде, потому что одержим идеей выбрать абсолютно идеальное, самое питательное, полезное и вкусное блюдо, которое точно не вызовет несварения и принесет максимум пользы. Он изучает состав каждого салата, читает отзывы о каждом десерте, советуется с диетологами по телефону. Он так боится положить на свою тарелку «не то» и совершить гастрономическую ошибку, что в итоге остается с пустой тарелкой, наблюдая, как другие, менее рефлексирующие люди, уже уходят сытыми и довольными. Его свобода выбора обернулась тюрьмой голода. Дневник ценностей в этой метафоре – это его блокнот, куда он записывает калорийность и витаминный состав каждого блюда, но не решается сделать выбор.
В моей консультационной практике был чрезвычайно показательный и, увы, не единичный случай, который с клинической точностью демонстрирует все подводные камни работы с ценностями при отсутствии правильной методологии. Ко мне обратилась молодая, интеллектуально развитая женщина, назовем ее условно Анастасией. Анастасия в течение шести месяцев с немецкой педантичностью и фанатичным усердием вела подробнейший, разбитый на цветные разделы и графики дневник ценностей. Она не просто фиксировала мысли – она проводила настоящую исследовательскую работу над собой: регулярно корректировала иерархию, вычеркивала «недостаточно истинные», по ее мнению, категории и добавляла новые, более «продвинутые».
Ее путь поиска себя напоминал подготовку к академической диссертации: она изучила десятки книг по популярной психологии и саморазвитию, от классиков до современных коучей, прошла несколько дорогостоящих онлайн-курсов по поиску призвания и обретению предназначения. Интеллектуально она поглотила гигабайты информации о том, как нужно искать себя. Но парадоксальным образом ее реальная, материальная жизнь в этот период практически стояла на месте, словно застыв в состоянии крио сна. Несмотря на весь свой мощный теоретический арсенал, она так и не могла решиться сделать самый главный шаг – уволиться с нелюбимой офисной работы, которая истощала ее ментально и эмоционально.
Здесь мы наблюдаем классический феномен «интеллектуализации как защитного механизма». Психика Анастасии, дабы избежать мучительной тревоги, связанной с реальным, рискованным действием, подменила само действие его бесконечной, изощренной симуляцией. Изучение книг и прохождение курсов создавало у нее иллюзию прогресса, ощущение, что она «делает что-то для изменения». На самом деле, это был побег в безопасное пространство чистых идей, где не нужно сталкиваться с риском неудачи, критикой начальника или финансовой нестабильностью. Ее активность была бутафорской, предназначенной не для внешнего прорыва, а для внутреннего самоуспокоения.
Корень ее ступора крылся в иррациональном, но мощном страхе: она боялась, что новая, желанная деятельность может противоречить каким-то глубинным, еще не выявленным и не прописанным в ее идеальном дневнике ценностям. Она находилась в плену перфекционистской иллюзии, что где-то существует идеальная, абсолютно точная карта ее личности, и только найдя ее, можно отправляться в путь. Любое же действие «до обретения полной ясности» казалось ей опрометчивым авантюризмом, порчей своего идеального, хоть и несчастного, будущего.
Это проявление «ценностного фундаментализма» – убеждения, что ценности являются раз и навсегда заданными, неизменными и абсолютными константами, подобно физическим законам. Анастасия не рассматривала их как живые, динамические, обусловленные контекстом и опытом ориентиры. Она ждала от них не руководства к действию, а гарантии стопроцентного успеха и отсутствия ошибок. Ее стремление к идеалу, к абсолютной чистоте мотивов, выполняло деструктивную функцию: оно полностью блокировало любой, даже самый маленький и нерискованный шаг вперед. Она ждала, что ценности явят ей себя в виде мгновенного озарения, божественного откровения, после которого жизнь мгновенно и магическим образом преобразится, а все ответы упадут с неба.
Ожидание «озарения» – это еще одна форма защиты от ответственности. Это желание пережить катарсис, который разом снимет все сомнения и подарит индульгенцию на безошибочные действия. Но ценности не открываются тому, кто пассивно их выжидает в кресле рефлексии. Они кристаллизуются, шлифуются и проявляются только в процессе деятельности, через практику, эксперимент, столкновение с реальностью и даже через ошибки. Мы проверяем, является ли «свобода» нашей ценностью, только оказавшись в ситуации выбора. Мы понимаем глубину ценности «помощь людям», только начав помогать и ощутив отклик.
Вместо озарения к Анастасии приходило лишь горькое разочарование и усиление чувства собственной неполноценности. Она начинала винить себя в том, что она «недостаточно умна», «недостаточно духовна» или «недостаточно стара», чтобы разгадать этот ребус собственной жизни. Ее дневник из инструмента развития превратился в инструмент самобичевания, в доказательство ее собственной несостоятельности.
Когда Анастасия обратилась ко мне, то я построила нашу с ней работу следующим образом:
1. Смена парадигмы: мы переформулировали цель с «поиска идеальных ценностей» на «экспериментальную проверку гипотез». Ее список ценностей стал не священным текстом, а полем для исследований.
2. Действие как запрос: вместо большого прыжка (увольнения) мы начали с микро-действий («исследовательских проб»). Так, она записалась на однодневный мастер-класс по керамике, чтобы проверить гипотезу о ценности «творчество». Она волонтерила одни выходные в приюте для животных, чтобы исследовать ценность «забота».
3. Анализ опыта: после каждого маленького шага мы анализировали не результат («стала ли я гончаром?»), а внутренний отклик. Что она чувствовала в процессе? Ощущала ли поток, интерес, скуку, раздражение? Это и были те самые данные, которые помогали скорректировать «карту ценностей», сделав ее не идеальной, но живой и работающей.
Постепенно Анастасия поняла, что ценности – это не координаты точки назначения, которые нужно угадать, чтобы потом лететь на автопилоте. Это скорее мышечный корсет, который укрепляется только в движении и благодаря движению. Она не нашла себя – она начала себя строить, и дневник наконец-то стал ей в этом помогать, а не мешать.
До работы со мной Анастасия была похожа на человека, который хочет пересечь океан, но вместо того, чтобы начать строить лодку, проводит годы в библиотеке, изучая идеальные чертежи кораблей, законы гидродинамики и карты звездного неба. Она боится, что ее первое суденышко будет не идеально и она утонет. Но она не понимает, что мореходному искусству нельзя научиться на суше. Только оттолкнувшись от берега на самой утлой лодчонке, можно понять, каким именно должен быть ее настоящий корабль: нужен ли ей парус скорости или прочный корпус для перевозки грузов, хочет ли она бороздить одиночные дали или каботажно плавать вдоль побережья с командой. Ее дневник был гигантской, но бесполезной библиотекой. И моя задача была в том, чтобы помочь ей спустить на воду первую, пусть и несовершенную, лодку – начать действовать.
Еще более серьезный и коварный риск, связанный с некритичным ведением дневника ценностей, заключается в опасном усилении двух мощных деструктивных сил: перфекционизма и самобичевания. Когда тщательно выверенные и выстраданные ценности изложены на бумаге в виде стройного, логичного списка или визуализированы в виде красивого, симметричного «Колеса жизни», они претерпевают тонкую, но радикальную трансформацию. Из гибких, живых ориентиров они кристаллизуются в жесткий, незыблемый эталон, в абсолютный критерий, по которому человек невольно начинает оценивать и выносить суждение о каждом своем дне, каждом отдельном действии и даже каждой мимолетной мысли.
Любое, даже самое незначительное отклонение от этого идеального плана, любое несоответствие этому внутреннему, возведенному в абсолют эталону, начинает восприниматься не как естественная человеческая ошибка или необходимость адаптации, а как глубокий личностный провал, свидетельство слабости воли или моральной несостоятельности. Вместо того чтобы служить мягким ориентиром для постепенного, поступательного развития и роста, ценности превращаются в жестокую плеть для ежедневного самобичевания, в инструмент самонаказания за не идеальность.
Этот перманентный, изматывающий внутренний конфликт между «должен» и «есть» создает плодороднейшую почву для развития тревожных и депрессивных состояний. Постоянное, гнетущее ощущение «я не дотягиваю до собственных стандартов», «я не соответствую тому идеальному образу себя, который сам же и создал» методично разрушает самооценку, подрывает веру в собственную способность к изменениям и формирует выученную беспомощность.
Как точно отмечает когнитивный терапевт Роберт Лихи, «перфекционизм часто основан на убеждении, что мы должны соответствовать нереалистичным стандартам, чтобы нас принимали и уважали»8. В случае с дневником ценностей человек сам, добровольно и с самыми лучшими намерениями, устанавливает для себя эти сверхвысокие, зачастую недостижимые стандарты, а затем оказывается в их жестоком заложнике, в ловушке собственного идеализма. Давайте обратимся к примерам из жизни.
Ценность «Развитие». Для бухгалтера Алексея эта ценность, выведенная в топ его дневника, превратилась в источник постоянного стресса. Он стал воспринимать любой свободный вечер не как законный отдых, а как предательство своего идеала. Просмотр сериала сопровождался укорами: «Я должен читать профессиональную литературу!». Выходные с семьей омрачались мыслью: «Я теряю время, я должен учить английский!». Его ценность превратилась в надсмотрщика, лишившего его права на паузу, на «просто жизнь». Это привело не к росту, а к выгоранию и чувству вины за каждый момент бездействия.
Ценность «Забота о близких». Для Марии, молодой матери, эта фундаментальная ценность стала тюремным надзирателем. Ее «Колесо жизни» показывало хронический недобор в этом сегменте. Любая ее раздражительность в адрес ребенка, любая потребность побыть одной без ребенка немедленно клеймилась как «провал» и «плохое материнство». Это трансформировалось в тревожный микроконтроль, гиперопеку и полное игнорирование собственных потребностей. В итоге ценность, призванная наполнять отношения теплом, привела к эмоциональному выгоранию, срывам и чувству, что она – «плохая мать» по определению.