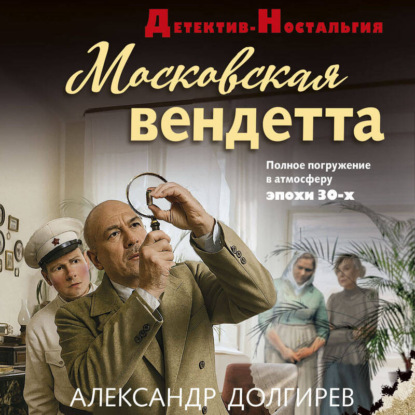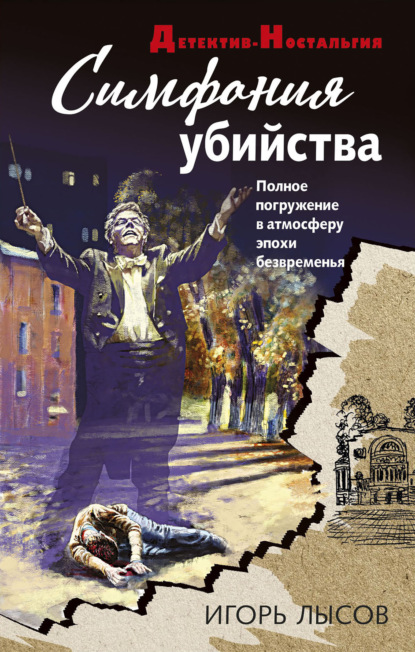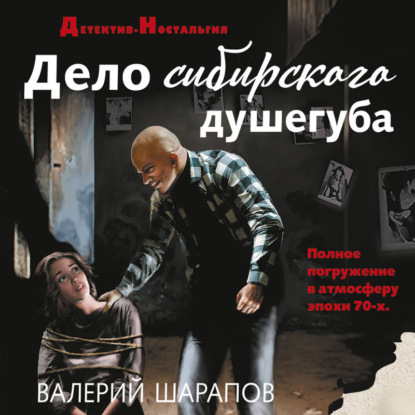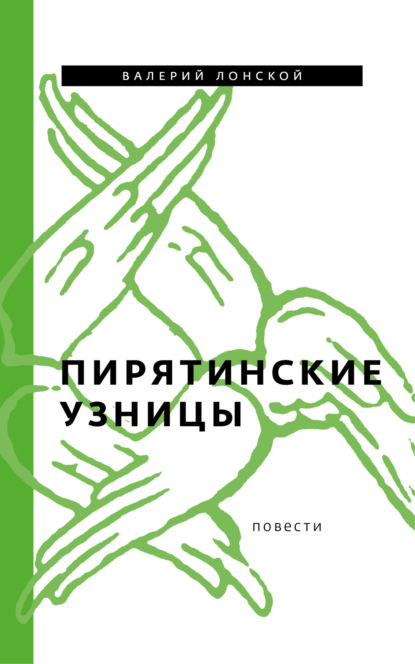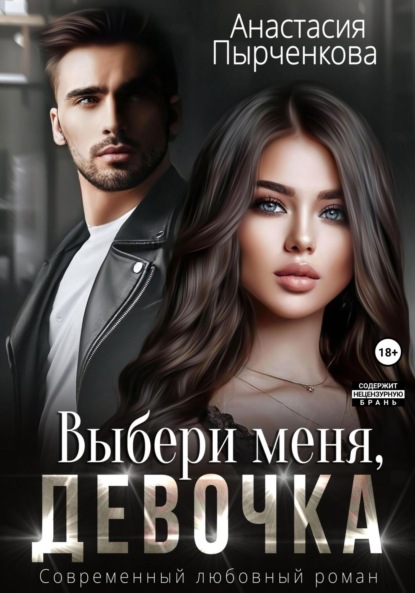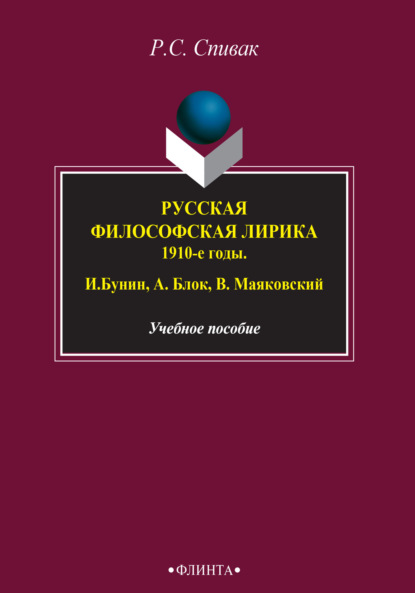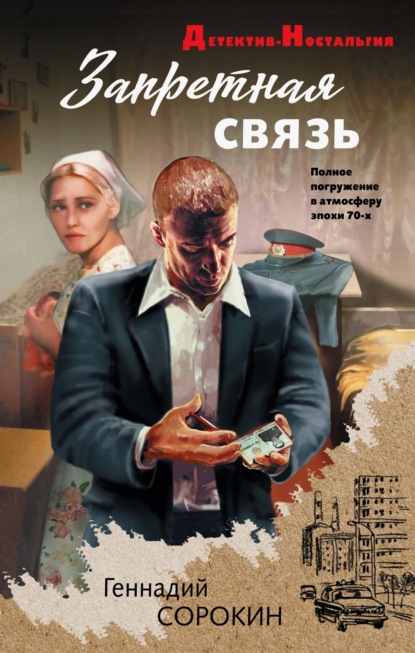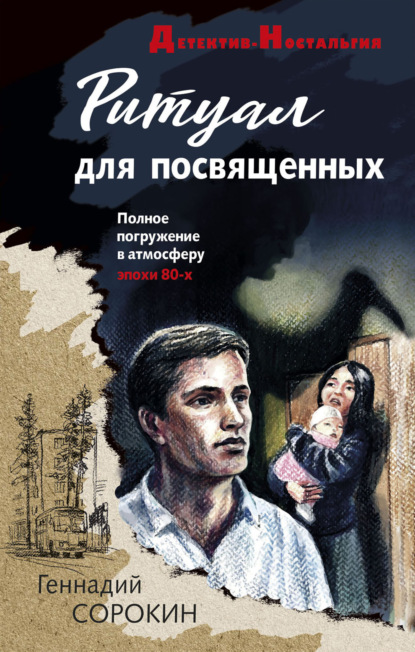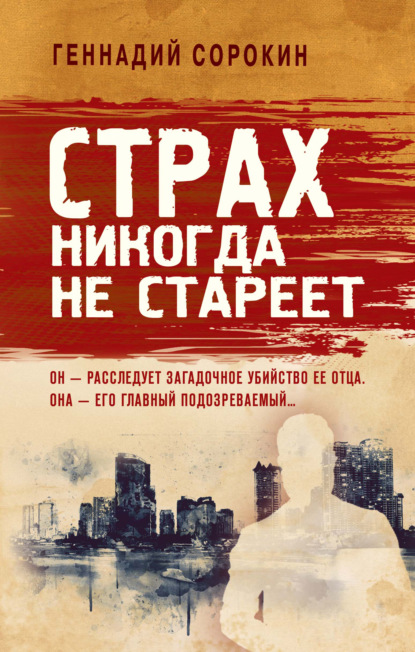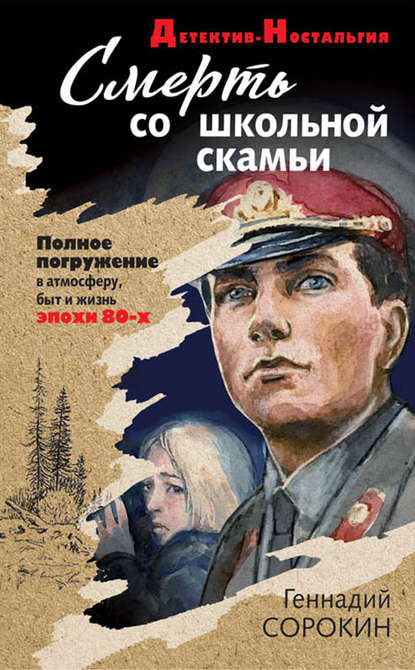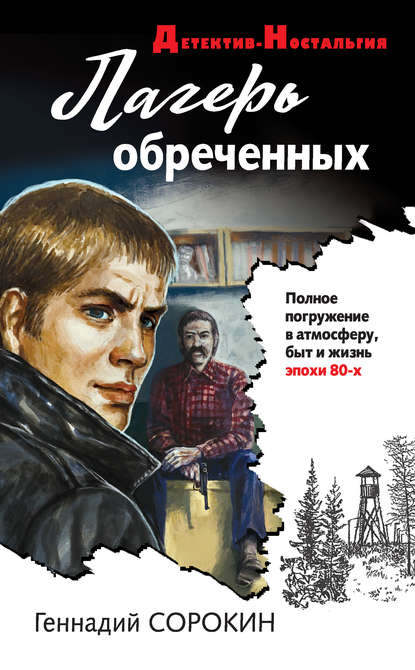Темное настоящее

Издательство:
Эксмо
Серия:
Детектив-НостальгияМетки:
превратности судьбы,советская эпоха,загадочные убийства,расследование убийств,тайны прошлого,портрет эпохи,жизнь в СССР,полицейское расследование,расследование преступлений,уголовный розыск,основано на реальных событияхКниги этой серии:
Ностальгия по временам, уже успевшим стать историей. Автор настолько реально описывает атмосферу эпохи и внутреннее состояние героев, что веришь ему сразу и безоговорочно.
Среди белого дня в одном из кабинетов престижного офисного центра обнаружен застреленным бизнесмен Юрий Борзых. Из свидетелей – только молодая любовница погибшего, обнаружившая тело, и дежурный охранник. Найденный здесь же пистолет позволяет предположить, что это самоубийство. К расследованию подключается ветеран МВД Андрей Лаптев, в прошлом опытный опер. Он вспоминает, что именно из этого пистолета тридцать лет назад был убит некий Мамедов, человек с темной биографией. Не исключено, что эти два происшествия связаны между собой… Сыщики еще не предполагают, что истоки этих кровавых событий берут свое начало в далеком прошлом в одной из экзотических ближневосточных стран…
Уникальная возможность на время вернуться в недавнее прошлое и в ощущении полной реальности прожить вместе с героями самый отчаянный отрезок их жизни.