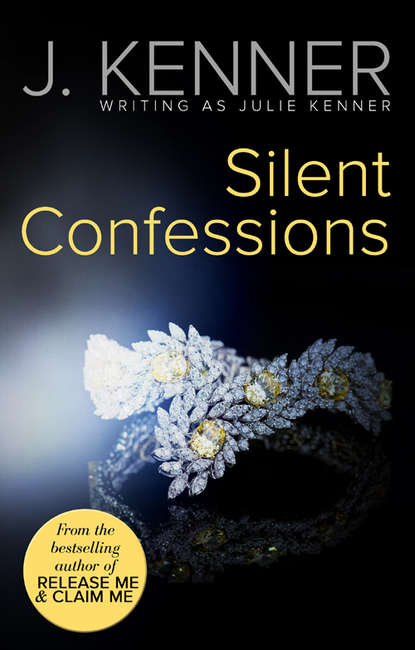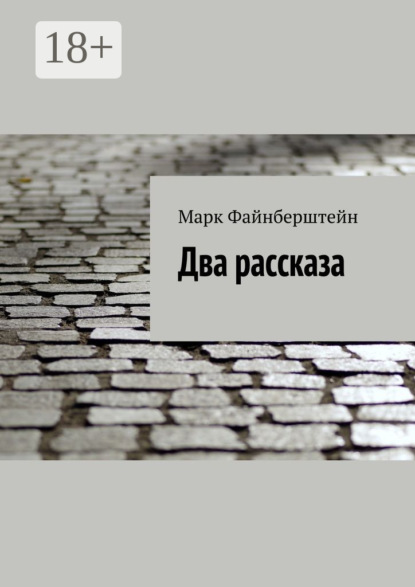- -
- 100%
- +
Взгрустнулось.
Рози встала перед зеркалом и снова попыталась завязать галстук. В какой-то момент у нее как будто начало что-то получаться, но стоило затянуть узел, как вся конструкция развалилась.
Секунду она обдумывала, не постучать ли в соседнюю дверь. Заглянуть в комнату и попросить Фиби ее научить, раз она такой эксперт. Но она тут же отмела эту мысль и стянула галстук с шеи.
Будь Эмма дома, Рози попросила бы ее. Эмма всегда хорошо к ней относилась. Всегда была к ней добра. Но Эмма в гостях у своего Ли. Как обычно.
Обращаться за помощью к Фиби и выслушивать язвительный отказ отчаянно не хотелось, но ей придется освоить эту науку до понедельника. Надо будет попросить Мэри записать для нее стишок про зайчика или нарисовать схему.
Рози бросила галстук на кровать. Ее кровать.
Она никак не могла к этому привыкнуть.
Можно ли назвать ее неблагодарной, если она до сих пор хочет уехать отсюда и вернуться домой?
Рози знала, что Мэри старается.
Как-то утром в начале лета, когда Рози молча гоняла по тарелке разбухшие хлопья и шкрябала ложкой по цветочному узору, проступающему на дне молочной воронки, Мэри положила руку ей на плечо и спросила про любимые цвета. Несколько дней спустя, увильнув от совместного просмотра какого-то дурацкого телешоу – сама она признавала только «Жителей Ист-Энда» и ужасно по ним скучала, – Рози пожелала всем доброй ночи, поцеловала папу, от которого пахло пивом, и по скрипучей лестнице поднялась на второй этаж. А когда зашла в комнату, обнаружила новые шторы цвета морской волны и розовое покрывало.
Она расплакалась, хотя сама не понимала почему, ведь Мэри поступила очень по-доброму и следовало сказать ей спасибо, а не засыпать в слезах. Надо думать, она просто поняла в этот момент, что с ней произошло. Именно тогда Рози окончательно осознала, что это ее комната. А раз так, значит, она никогда не вернется в свой настоящий дом, не проснется в своей постели, потому что все это – не кошмарный сон, а реальность.
Рози выглянула в окно. Последний день августа, три полных месяца со смерти мамы. Полтора – с тех пор, как папа позвонил Мэри и та спустя два часа приехала в Лондон. Полтора месяца Рози смотрела из этого окна на такой непривычный пейзаж.
Дома, в Лондоне, ее комната располагалась на последнем этаже, под самой крышей. По вечерам, когда по всему городу зажигались огни, легко можно было представить, что из окна ее комнаты видно весь Лондон – лоскутное покрывало, усеянное оранжевыми и белыми булавками. На закате она смотрела, как перекрашиваются крошечные домики на горизонте, а порой даже видела – или думала, что видит, – как сверкает в лучах солнца Темза.
Теперь из окна открывался совсем другой вид. Ее новая комната располагалась в задней части дома, и окно выходило в сад с деревом и прудом; в разгар дня солнце отражалось от поверхности воды и по потолку комнаты разбегались солнечные зайчики. А дальше, за низеньким штакетником, плескалось море перепаханного чернозема с сараями из гофрированного железа и жирными, визгливыми, пердящими, вонючими свиньями.
По ночам, не считая тусклого оранжевого свечения над ближайшим городком, мир погружался в непроглядную тьму. Но хрюканье свиней сопровождало Рози даже ночью. Хрюканье и вонь.
Когда она была помладше, ей нравились свиньи. У нее была целая коллекция плюшевых хрюшек и фигурок всех цветов и размеров, которые она расставляла на полках перед книгами. Одно время Рози даже уговаривала родителей купить ей вислобрюхую свинку в качестве домашнего животного. Ей отчаянно хотелось, чтобы рядом был маленький поросеночек, который смешно похрюкивает и виляет закрученным хвостиком.
Кто бы мог подумать, что однажды Рози всей душой будет мечтать оказаться подальше от этих животных.
Пару недель назад, когда стояла жара, она открывала окно настежь и спала без одеяла, в трусах и футболке, как привыкла в Лондоне. Поначалу ей нравилось, как шелестят за окном листья большого дерева, как лунный свет струится сквозь ветви и рисует на стене ее комнаты узоры. Но в какой-то момент ветер переменился, и в комнате вдруг запахло навозом. Рози встала и закрыла окно, но, хотя больше ни разу не открывала его и побрызгала все свои вещи духами, запах преследовал ее до сих пор.
И все-таки сад был красивый, хотя и вонял свиньями.
Рози выглянула в окно. Солнце клонилось к горизонту, и в его косых лучах казалось, что дерево покачивается в танце; серебристо-зеленые листочки сияли, будто осень уже наступила, а желтые и красные, отражаясь от водной глади, превращали пруд в полыхающий огненный омут. Очередной день подходил к концу.
Рози снова подумала про тех мальчиков. Про двух принцев.
Где они будут сегодня ночевать?
Вот бы найти способ с ними связаться. Рози сказала бы: это ничего, что вам не хочется плакать. Это не значит, что вы не любили свою маму. Просто ваш мозг еще не до конца осознал, что случилось. Может быть, стоит написать им письмо.
Первые дни после маминой смерти походили на странный сон и оставили еще более странные воспоминания. Рози словно видела их в кино или читала про них в книге: у нее совсем не было ощущения, что это произошло с ней, в ее жизни. Отчетливо запомнилось только одно: почему-то она была уверена, что должна плакать. Папа плакал, и тетя Яс тоже – она постоянно обнимала Рози, что было очень странно, потому что тетя не только напоминала маму внешне, но и пахла так же, духами и мылом «Дав». Но недели сменяли друг друга, а слезы все не шли.
Плачут ли эти мальчики сегодня, зарывшись лицом в подушку? Или для того, чтобы слезы наконец полились, кто-то должен купить им новые шторы?
Тем утром, когда погибла мама принцев, Мэри плакала, и Эмма тоже. Фиби не плакала, но сидела рядом с Рози, пока они смотрели новости, что само по себе было удивительно, учитывая их отношения в последние шесть недель.
Когда Рози спустилась к завтраку, на кухне никого не было. Ей стало тревожно: за все лето не было и дня, чтобы, проснувшись, она не почувствовала аромата кофе и свежей выпечки, проникающего через деревянные половицы.
Ей пока трудно было привыкнуть к тому, что каждый прием пищи в этом доме превращается в целое событие. От сочетания официоза и непринужденности голова шла кругом. На каждой тарелке красовалась сложенная домиком матерчатая салфетка, но завтракали все в пижамах, взъерошенные после сна. По вечерам в доме зажигали свечи и не приступали к ужину, пока вся семья не соберется за столом, но когда Эмма достала за едой книжку, никто не моргнул и глазом. В Лондоне, в те редкие дни, когда они втроем собирались вместе за ужином, Рози не разрешалось читать за столом, а завтрак обычно представлял собой тарелку хлопьев перед телевизором.
Но в это утро она спустилась на кухню и увидела, что стол не накрыт и все, даже папа, собрались в гостиной и с отвисшими челюстями смотрят телевизор, а на экране мелькают автомобили с тонированными стеклами.
– Случилась автокатастрофа. – Глаза у Мэри были красные, опухшие от слез. – Принцесса Диана разбилась.
Первая мысль Рози была: она никогда не видела, чтобы Мэри плакала. Вторая была о сыновьях леди Ди, о принцах.
Как им сообщили о смерти матери?
Рози тут же представила, что принцам все рассказал отец – так же, как ее папа рассказал ей. В голове нарисовалась картинка: двое принцев в костюмчиках с эполетами сидят на кожаном диване, совсем как она, а рядом их отец. Долгий тяжелый вздох – как будто из него медленно выходит воздух. Принц Чарльз, будущий король, прячет лицо в ладонях, свесив голову между коленей, и ничего не объясняет, а только повторяет снова и снова имя их матери и сдавленно всхлипывает, как ее папа.
Конечно, все было не так. Наверняка они узнали обо всем от няни или гувернантки, от специально приставленного человека. И уж тем более они не могли в этот момент сидеть в гостиной скромного дуплекса на севере Лондона.
Почему-то от этой мысли – что где-то там, за этим деревом, за полями с вонючими свиньями, медными в лучах заходящего солнца, есть два мальчика, которые знают, что она чувствует, – одиночество немного отступило.
Рози подошла к окну и открыла его впервые за несколько недель.
В воздухе похолодало, и к вездесущей навозной вони примешивался легкий запах костра, от которого что-то шевельнулось в груди. Несмотря на грусть, на тоску по маме, в смене времен года, в этом новом начале было нечто утешительное. Скоро листья, позолоченные закатом, пожелтеют по-настоящему. В деревне многие деревья уже начали менять цвет: Рози обратила внимание, когда каталась на велосипеде.
Дерево ей нравилось. Рози была рада, что его видно из окна. Мэри предложила ей самой выбрать комнату: одна была большая, с противоположной стороны дома, а другая – эта, поменьше. В большой комнате окно выходило на проезд, где ее могли увидеть с улицы. Поэтому Рози выбрала эту, хотя за стенками с обеих сторон было слышно Фиби и Эмму. Тогда она думала, что пробудет здесь до конца лета. Знай она, что это навсегда, возможно, выбрала бы иначе.
– Мы поживем здесь еще немного, цветик.
Папа стоял на пороге ее комнаты, прислонившись к дверному косяку. Волосы у него были мокрые, только из душа, и от него резко пахло лосьоном после бритья.
– Погостим пока у Мэри. Это ненадолго, обещаю. Пока я не решу, где мы будем жить.
– А как же танцы, пап? У меня выпускные экзамены. А мои вещи? Моя комната? А школа? Как быть со школой?
– Со школой я все устроил. Фиби поможет тебе освоиться. Здорово же, когда классом старше учится сестра. Да еще и Эмма в выпускном классе! Тебя никто не посмеет обидеть!
Он посмотрел на нее. И, надо думать, заметил написанный на ее лице ужас.
– Прости, цветик. Я пока не могу вернуться в тот дом. Прости.
Он отвернулся, и, не успела она возразить или предложить перебраться к тете Яс, его спина затряслась от рыданий, и тогда Рози поняла, что проживет здесь столько, сколько потребуется, если этого хочет папа.
За последние несколько месяцев Рози испытала столько грусти, сколько не испытывала за всю жизнь, но отца ей было еще жальче. От мысли, что мама умерла, грудь разрывало болью, но это папе пришлось смотреть, это он нашел ее – маму – в холодной ванне. Рози помотала головой, прогоняя непрошеные образы.
Временами ей начинало казаться, что она видела все своими глазами – до того четкими, натуралистичными были эти образы. Но ее там не было. В последний раз Рози видела маму, когда та высадила ее у тети Яс, чмокнула в щеку и сказала: «Не подведи меня». В тот момент Рози пропустила эти слова мимо ушей. Решила, что мама имеет в виду балет. Но теперь эта фраза в тысячный раз звучала в голове.
«Не подведи меня».
Рози высунулась из окна, чтобы закрыть створку. Взгляд привлекло движение в глубине сада. Кто-то открывал калитку. Фигура в капюшоне выскользнула наружу и зашагала по тропинке за домом. По телосложению Рози догадалась, что это Фиби – она была пониже старшей сестры, к тому же Эмма в жизни бы не оделась во все черное. Фиби быстро удалялась от дома по тропе между полями и явно держала курс на деревню. Даже мешковатые джинсы и толстовка не могли скрыть ее изящества. Женственности.
«Маленькие женщины»!
Лори. Ну конечно, еще один полноценный сирота из ее любимой книги. Рози читала «Маленьких женщин» прошлым летом, во время поездки в Грецию. И потом перечитывала на осенних каникулах. Она просто влюбилась в эту книгу, и, когда папа спросил, придумала ли она, что дарить сестрам на Рождество, Рози не сомневалась ни секунды. Она упаковала подарки сама, завив ленточку боковой стороной ножниц, как учила мама. А когда они собрались в доме бабушки и настало время дарить подарки, с трепетом смотрела, как Эмма осторожно отлепляет скотч и разворачивает бумагу.
– «Маленькие женщины». Спасибо, Розочка. Я не читала.
Эмма потянулась к ней и крепко обняла. Рози посмотрела на Фиби. На коленях у нее валялась рваная оберточная бумага. Фиби полистала страницы.
Потом тяжко вздохнула и повернулась к отцу.
– Если вернуть в магазин, мне дадут сертификат на ту же сумму?
Эмма повернулась к Фиби и выхватила у нее книгу.
– Фиби! Скажи Рози спасибо.
Эмма – единственное, что было хорошего в этом лете. Эмма называла ее Розочкой и по вечерам через дверь желала спокойной ночи. Разрешала самой выбирать канал и заплетала ей волосы, пока они вместе смотрели телевизор.
В отличие от сестры, Фиби, заходя в гостиную, первым делом забирала пульт. Или, если пришла первой, демонстративно перебиралась с дивана на пол, когда Рози осмеливалась присесть рядом. А в середине лета, когда они вместе с Мэри и Лиззи возвращались с пляжа в Филикстоу, Фиби ущипнула себя изо всех сил, так что осталось красное пятно, а потом заорала, свалив все на Рози, и Мэри пришлось съехать на обочину, пока все не успокоились.
Рози провожала Фиби взглядом, пока та не скрылась в сумерках. Скоро совсем стемнеет. Куда она собралась? За стенкой продолжался заунывный вой, который Фиби называла музыкой. Уловка? Или она просто вышла на прогулку?
Для местных «прогулки» были основным видом досуга. Лиззи и Мэри каждый вечер, до ужина, наматывали по деревне километры, чтобы «оставаться в форме». Даже отец время от времени заглядывал к ней в комнату и говорил, что хочет размять ноги. Дома, в Лондоне, он никогда не ходил пешком без конкретной цели.
Налетел ветер; Рози, поежившись, захлопнула окно и вернулась к кровати. На розовом покрывале все так же лежала школьная форма, а поверх формы – несчастный галстук.
Как странно, что мама никогда не увидит ее в этой форме.
5
Фиби стоит в оранжерее, покачиваясь взад и вперед. Сын лежит у нее на плече, платье под его теплым тельцем липнет к коже.
Прищурившись, Фиби вглядывается вглубь сада. Там, под деревом, стоит Рози – она склонилась и рассматривает что-то лежащее на траве. Солнечные лучи сеются сквозь листву, и ее кожа кажется крапчатой – ни дать ни взять хищница в засаде, – но тут Рози выпрямляется, потягивается и забирается на стул у края стола. Вытянувшись на цыпочках, она наматывает конец нити из флажков на одну из низко свисающих ветвей.
Засопев, младенец укладывается поудобнее и подтягивает голые ножки к животу. Его спина, как черепаший панцирь, идеально ложится под ладонь. Фиби шепчет сыну успокаивающую бессмыслицу, прижимается губами к мягким темным завиткам на темечке. В носу становится щекотно, и она задирает голову, чтобы остановить чих.
Вообще-то он сейчас должен быть наверху, в переносной люльке, рядом с сестрой, которая дрыхнет без задних ног на надувном матрасе в обнимку с полусдувшимся воздушным шариком. Но когда он наелся – когда Фиби почувствовала, как его губы, испачканные ниточкой молочной слюны, выпустили сосок, когда взгляд его осоловел, а тело обмякло, – она, уступив эгоистичному порыву, просто не смогла заставить себя выпустить сына из рук. Ей хотелось вдыхать его запах, чувствовать, как работают маленькие легкие, прижатые к ее груди. Ей необходимо было держать его при себе как талисман, оберег от сглаза. Никто не тронет женщину со спящим младенцем на руках. Фиби знает, что сегодня ссоры под запретом, но эта духота, это звенящее в воздухе ожидание в сочетании с очагами суеты по всему дому – да что там, само ее присутствие в этом доме заставляет поверить, что, несмотря на запреты, конфликта не избежать. Фиби буквально чувствует, как в воздухе искрит напряжение.
Она отпивает лимонада – кубики льда стучат в холодном стакане – и сует ноги в сандалии, брошенные на циновке у выхода из оранжереи.
Лет с четырнадцати она носит один размер с Мэри. Но только недавно ей пришло в голову, что в подростковом возрасте в ее распоряжении была обувь сразу трех человек. Не сказать чтобы она этим пользовалась. Вещи Эммы она не надела бы даже на собственные похороны. Обувь Мэри в те годы тоже не вызывала у нее симпатии. Материнские туфли Фиби считала не менее уродливыми, чем лакированные шпильки Эммы, хотя в ее глазах те и другие были уродливы каждые по-своему. И лишь во время беременности – когда ноги начали отекать, как наполненные водой воздушные шарики, а все ее многочисленные пары обуви превратились в орудия пыток, – лишь тогда облака невежества расступились и на Фиби снизошло озарение: она наконец поняла любовь Мэри к практичной обуви. По ночам она лежала без сна перед мерцающим экраном смартфона; как одержимая листала каталоги интернет-магазинов, добавляла в корзину биркенштоки и даже, страшно сказать, кроксы, на которые прежде не могла взглянуть без отвращения, и по памяти вбивала номер карты Майкла, пока тот, ничего не подозревая, похрапывал рядом.
Фиби идет по газону. Дождя не было уже несколько месяцев, и пересохшая трава шуршит под ногами, как солома. Фиби поджимает пальцы; темные углубления на подошвах сандалий не совпадают с формой ее стопы.
– Привет.
От ее голоса Рози вздрагивает и теряет равновесие. Отводит руку в сторону, чтобы удержаться на стуле, и разворачивается изящно, словно описывает пируэт. Взгляд, которым она одаривает Фиби, редко увидишь на ее обычно улыбчивом лице, но в следующую секунду гримаса исчезает без следа, и Фиби разбирает смех. Склонив голову набок и вскинув бровь, она наблюдает, как Рози, вспомнив о директиве Мэри, поспешно пытается замаскировать запрещенное выражение.
– Тс-с. Бабушка спит.
Рози спрыгивает со стула, и ее разметавшиеся кудри на секунду окружают голову сияющим ореолом. Потом кудри опадают, а на лицо Рози возвращается неизменная улыбка.
– Эту штуку три часа распутывать. – Рози кивает на ворох спутанных ниток и золотых флажков. – К тому времени, как я закончу ее вешать, пора будет снимать.
– Ничего, что бабушка на солнце, как думаешь? Голову не напечет?
– Внутри сидеть негде, так что я вывела ее во двор. Пусть подышит свежим воздухом.
Рози устраивается на стуле, принесенном из столовой, и берется за очередной узел.
– Можешь подвинуть в тень вон тот, с подлокотниками?
Фиби указывает на старый деревянный стул с решетчатой спинкой, который обычно стоит в прихожей под ворохом рекламы из почтового ящика.
– То, что мы вернулись в этот дом, не значит, что я буду тебе прислуживать.
– Я просто не хочу, чтобы он перегрелся.
Рози со вздохом встает, берется за высокую спинку и волочит стул к Фиби, под дерево. Подтаскивает к заборчику вокруг пруда, поближе к креслу, из которого доносится раскатистый бабушкин храп. Потом быстро забирает у сестры лимонад, помогает ей сесть, возвращает стакан и наклоняется погладить младенца по голове – все это одним плавным движением.
– Прости, что сорвалась, Фибс.
– Я и правда почти десять лет обращалась с тобой как с прислугой. Извини, я начинаю нервничать.
Рози гладит ее по руке.
– Все пройдет хорошо.
Фиби кивает. Это помогает: если тело верит, что все будет хорошо, возможно, поверит и мозг. По лбу от корней волос стекает струйка пота, Фиби ловит ее у виска и смахивает.
– Фу! Ну и жара!
Рози искоса поглядывает на нее.
– Отчего ты всегда ходишь в черном?
– «Это траур по моей жизни».
– Сколько пафоса.
– Это из пьесы. Забей. Говорю же, нервничаю.
Рози качает головой и, помогая себе зубами, распутывает очередной узел.
Сын ерзает у Фиби на плече, и она опускает глаза на его насупленное личико. Родись у нее девочка, она бы хотела назвать ее Машей. Майкл был против: он считал Машу самой раздражающей из «Трех сестер». Но Фиби имела в виду другую Машу – из «Чайки», первой пьесы, которую она увидела в Национальном театре. Когда ей было лет тринадцать, Лиззи повела их на дневной спектакль. Все было обставлено как подарок, но теперь Фиби понимает, что Лиззи просто забрала их у Мэри, чтобы та могла погулять по Лондону в свое удовольствие. Как бы там ни было, этот поход в театр бесповоротно изменил жизнь Фиби. Из зрительного зала она вышла с осознанием, что хочет стать актрисой и что, если у нее когда-нибудь родится дочь, она назовет ее Машей. В актерстве она разочаровалась, а когда родила дочку, то, недолго думая, назвала ее в честь удивительной женщины, воспитавшей Майкла.
Она кладет ладонь на идеально круглую голову сына, в тысячный раз любуется его красивыми ноздрями и тоненькими волосками бровей.
– Ты вроде собиралась вздремнуть?
Фиби неохотно отводит взгляд от лица Альби и поднимает глаза на Рози.
– Не смогла заснуть. Дождика бы.
– Ужасно угнетает, да?
– Я лежала там, наверху, в духоте, представляла, каково будет детям…
– А где вторая? Горластая?
– Клара спит. Дрыхнет без задних ног. Я сама виновата, надо было укладывать вчера вовремя. Сегодня постараюсь уложить пораньше – не хочу все веселье пропустить.
Краем глаза Фиби замечает, что Рози на секунду бросает свое занятие и косится на нее. Игнорируя ее взгляд, Фиби потягивает лимонад и оглядывает разномастные стулья, неровную поверхность стола под скатертями, поблескивающую в траве вереницу флажков.
– Смотрится весьма эксцентрично.
– А мне нравится. Похоже на чаепитие у Безумного Шляпника. Так уютно.
– Будем надеяться, к концу дня от этого уюта хоть что-нибудь останется.
Рози снова берется за флажки и начинает напевать себе под нос, но тут же замолкает.
– Поставлю музыку.
Она встает и направляется к дому, бросив флажки на траве.
Фиби устраивается поудобнее и оглядывает два стула с высокими спинками у дальнего края стола. Они возвышаются среди знакомой мебели, как два одиноких перста. Жаккардовая обивка, расшитая золотой нитью, – претенциозная и, откровенно говоря, пошловатая. Фиби подозревает, что это какая-то внутренняя шутка, недоступная ее пониманию, потому что сегодня утром, когда их выгрузили из фургона, Майклу пришлось подписывать накладную за Мэри, пока та, рыдая от смеха, ходила за носовым платком, чтобы вытереть слезы.
В чем бы ни заключалась шутка, если эти безвкусные жаккардовые троны поднимают маме настроение, придется с ними смириться.
Слуха Фиби достигает слабая мелодия: по радио начинается очередная передача. Время идет; пора решать, будить ли Клару или, наоборот, уложить младенца и сходить в душ, пока оба спят. Возможно, лучше дождаться, когда Майкл закончит с гирляндой, и оставить детей на него. Если кто-то из них проснется, пока она в душе, о спокойном мытье можно забыть, а ей бы не хотелось встречать людей, которых она не видела столько лет, с наполовину бритыми ногами.
Фиби смотрит на дом, на стены, в которых выросла. Как странно и грустно, что это последние выходные, которые они здесь проведут. Ни Клара, ни Альби не запомнят это место. До маминого звонка несколько месяцев назад Фиби представляла этот дом константой, которая всегда будет частью их жизни. Конечно, само здание никуда не денется, но их в нем уже не будет. Невозможно было представить, чтобы здесь поселилась другая семья. И все же через неделю это случится. Казалось бы, кому как не ей знать, что не бывает ничего постоянного. Но жизнь раз за разом повторяет этот урок – наверное, чтобы Фиби уж точно его усвоила.
В оранжерее мелькает что-то красно-желтое.
На секунду Фиби охватывает странное ощущение, что там, в оранжерее, – она сама. Не просто она «спустя четверть века», как любезно выражаются окружающие, когда видят их вместе с Мэри; нет, на секунду в голове всплывает растерянное: «Как я могу быть тут и там одновременно?» Но тут до нее доходит, что это мама в новеньком халате составляет друг на друга коробки.
Мэри скрывается в глубине дома; Фиби снова подносит к лицу младенца, вдыхает его сдобный запах в надежде подстегнуть выработку окситоцина.
Она знает, что сегодня должна испытывать только одно чувство: радость за маму. Что сегодня праздник, ведь они наконец-то собрались вместе, всей семьей. Но Фиби грустно от осознания, с чем приходится прощаться. А еще она знает, что сосущее чувство в животе вызвано не только грустью. Ей страшно. На протяжении нескольких месяцев она страшилась сегодняшнего дня. Страшилась встречи с Эммой. Того, что может случиться. Того, что она почувствует. Того, как будет справляться со своими чувствами.
Она болтает кубики в стакане. Лед быстро тает на жаре, разбавляя мутный лимонад до прозрачности. Фиби залпом допивает остатки, хрустит осколками льда. Острая боль пронзает виски, вспыхивает за веками: холод перекрывает приток крови к голове.
– Нашла! – кричит Рози, высунувшись из окна своей комнаты.
– Твою мать, Рози!
Фиби выдыхает эти слова почти неслышно, но младенец все равно вздрагивает, как будто куда-то падает, и Фиби прижимает его еще крепче, успокаивающе воркует и поглаживает по спине круговыми движениями.
Неужели никто в этой семье не понимает, как трудно уложить маленьких детей спать? Разве это не общеизвестная истина? Они смотрят телевизор, у них наверняка есть друзья с детьми. У мамы, в конце концов, тоже были дети, и все равно вчера вечером они с Рози разгалделись на лестнице так, словно пытались перекричать взлетающий вертолет. Неужели обязательно было обсуждать эти сраные флажки среди ночи, стоя под дверью комнаты, в которой спят дети?