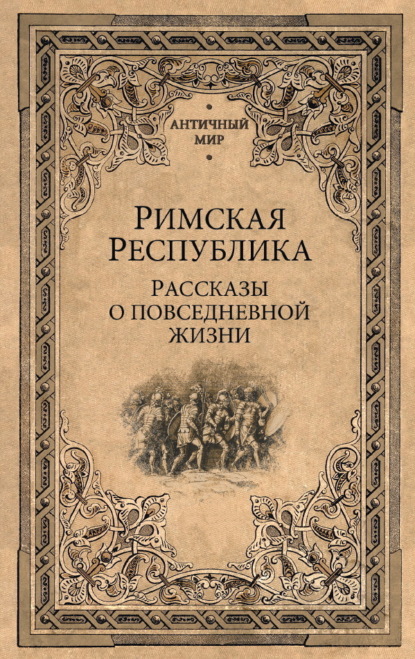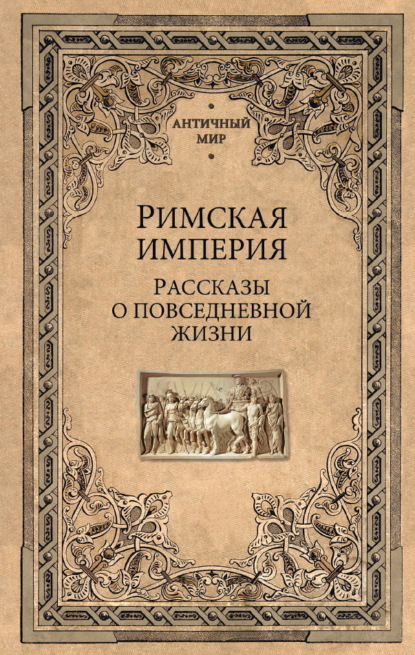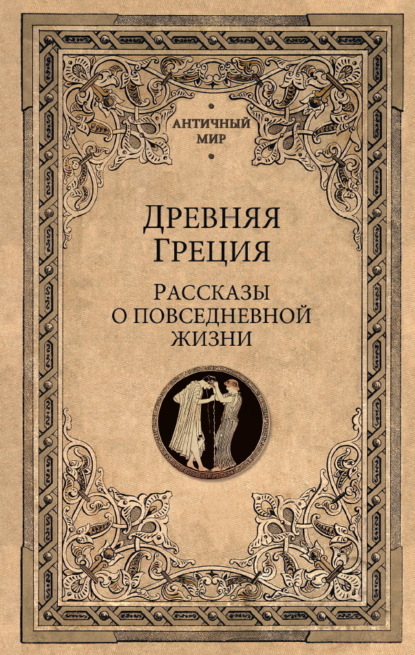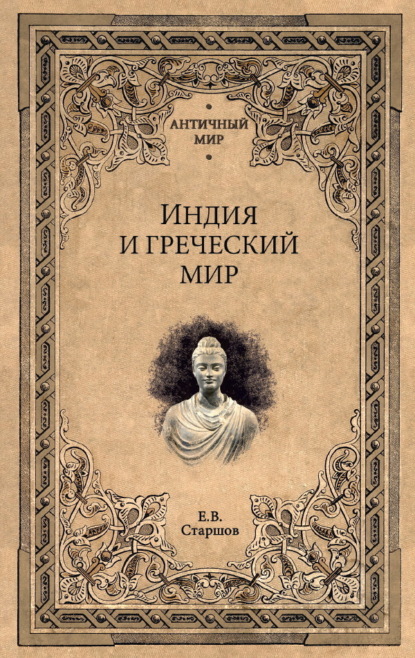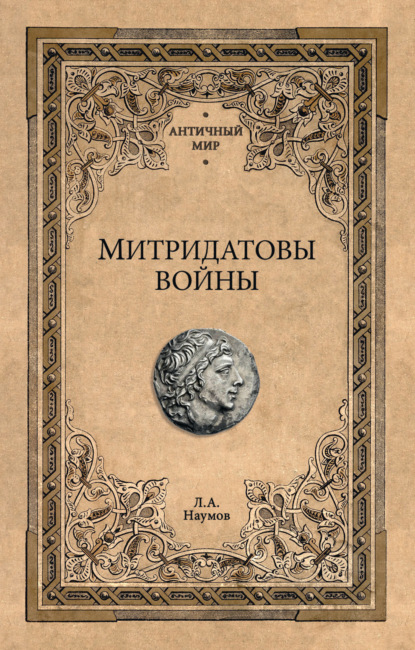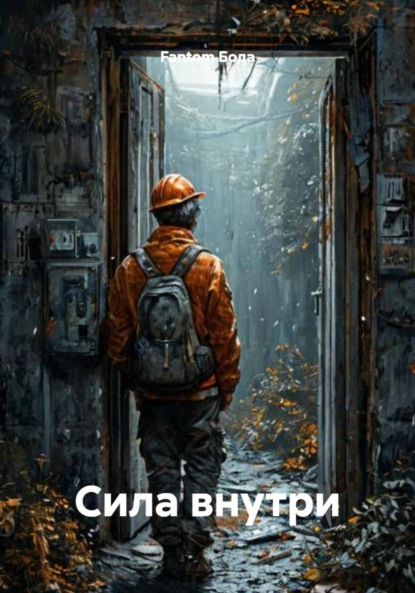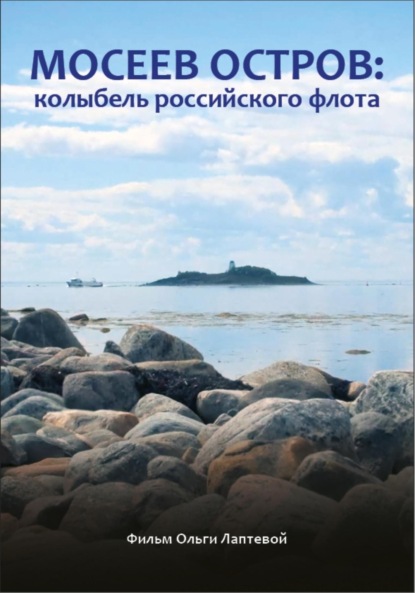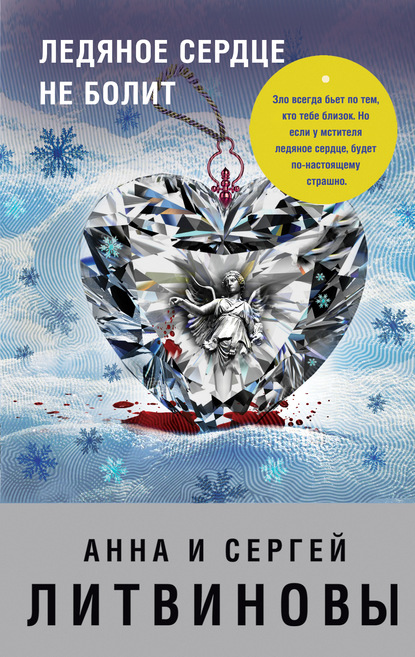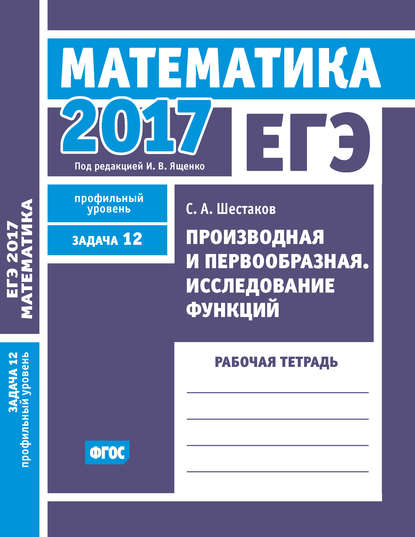Римская Британия
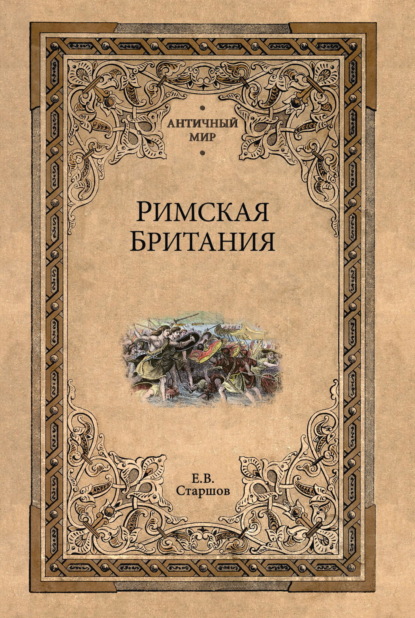
- -
- 100%
- +

Посвящается любимым моим родителям – Альбине Федоровне (1947–2017 гг.) и Виктору Васильевичу (1945 г.р.) Старшовым

Античный мир

© Старшов Е.В., 2024
© ООО «Издательство «Вече», 2024
Введение
История Римской Британии по каким-то странным, неисповедимым путям до сих пор остается для русского читателя чем-то неведомым. Порой в разговорах на эту тему с людьми, даже довольно близкими к истории Древнего мира, приходится слышать нечто вроде «А что там было интересного? Там же не было грандиозных битв, как с македонянами или карфагенянами… Памятников, подобных турецким и североафриканским, тоже особо не видно…» В лучшем случае о Римской Британии вспоминают разве что в связи с Галльской войной великого Цезаря и, еще реже, с восстанием Боудикки в I в. н. э., оперативно подавленным завоевателями. Но такой взгляд не просто поверхностен – он глубоко ошибочен. Военные операции римских наместников Паулина, Агриколы и иных, осуществляемые в труднодоступных гористых местностях Уэльса и Шотландии, или умелое противостояние малым числом гигантским бриттским ордам (в битве с царицей Боудиккой, например, на одного римлянина «официально» пришлись 23 бритта – все равно, гигантское превосходство налицо, даже если Дион Кассий преувеличил цифру) – не менее яркие образцы военного искусства Античности. И это – лишь одна, далеко не главная грань Римской Британии. На протяжении нескольких веков она являлась объектом пристального внимания как античных ученых и историков, так и римских императоров со всеми вытекающими для нее благими и печальными последствиями, один впечатляющий список которых напоминает оглавление труда Светония Транквилла (кстати, несостоявшегося британского трибуна) «Жизнь двенадцати цезарей» или позднеантичных «Жизнеописаний Августов»! Цезарь, Октавиан Август, Калигула, Клавдий, Нерон, Веспасиан, Тит, Адриан, Антонин Пий… – вплоть до Константина Великого, провозглашенного императором именно на британской земле, в римском Эборакуме – нынешнем Йорке. Если оставить в стороне роль личности в истории, Римская Британия явила миру не просто удивительную кельтско-латинскую амальгаму (это не было особым уникумом, для примера можно вспомнить хотя бы ту же Галлию). История Римской Британии – причудливое смешение народов, культур, а также вер, поскольку наложение на упомянутую амальгаму христианства привело в итоге к уникальнейшему в мировой истории феномену – ирландскому миссионерству, охватившему весь западный мир, от Британии до Италии, от Галлии до Киева и Новгорода: а дал ему импульс не кто иной, как крещеный бритт Патрик, сын то ли римского декуриона, то ли диакона, попавший в плен к ирландским язычникам… Это все не было бы возможным, если бы бритты со всей пылкостью своих душ не приняли бы новую веру. И это пока мы говорим только об одной вере, а в историю Римской Британии (и даже шире, берем и Галлию) внесли свой вклад и таинственные друиды, чей религиозный центр был на острове Англси; римские легионеры принесли с собой таинственный восточный культ быкоборца Митры, а недавние археологические изыскания поведали о серьезном повороте бриттов к своим древним богам, что выразилось в создании в IV в. н. э. храмов бога Нодонта близ устья Северна и неизвестного божества с быком и тремя богинями в Дорсете. Конечно, великий остроумный Черчилль в чем-то лукавил – как всегда и везде, однако стоит обратить внимание на данную им оценку истории Римской Британии, как «самые спокойные и просвещенные времена, когда-либо выпадавшие на долю ее обителям». В общем, остается только скорбно гадать о том, каким бы диковинным цветком распустилась на скрижалях истории Древняя Британия, не положи ей насильственного и скорого конца англосаксонское завоевание.
Период, отпущенный для расцвета христианской Британии, был непомерно короток – немногим более века, поскольку, с выводом оттуда римских войск в начале V в., молодое христианское государство на окраине мира оказалось предоставленным сначала междоусобию местных правителей, а потом – вторгшимся германским язычникам: англам, саксам, ютам и фризам. Гибель Римской Британии была не менее трагичной и кровавой, чем гибель того же Карфагена – просто она совершенно не на слуху. Британия была просто утоплена в крови ее кельтских обитателей, лишь малая часть из которых нашли прибежище у соплеменников в горах Шотландии, Уэльса и Корнуолла, а также в Ирландии и на галльском побережье, дав его части свое имя, – это нынешняя Бретань, прежде звавшаяся Арморикой. Варвары-германцы практически уничтожили прежнюю культуру и христианство в стране, само имя которой они изменили на Englaland – «землю англов», позже несколько сократившееся до всем известной England – Англии. И в то время как отдельные романо-британские землевладельцы – такие, например, как Амброзий Аврелиан, ставший прототипом легендарного короля Артура – с оружием в руках пытались защитить свою родину, другие в эмиграции пытались дать религиозно-философское осмысление всему происшедшему, как святой Гильда Премудрый. Но усилия ни тех, ни других не спасли Римскую Британию от того ада, в который ее погрузили чужеземные захватчики. К 600 г. бриттское сопротивление было окончательно подавлено. Римские города, форты, виллы, бани – все пришло в запустение, поскольку англосаксы весьма недоверчиво относились к римско-британской городской культуре, предпочитая селиться в привычных им деревнях в стороне от этих разрушавшихся построек, которые казались им жилищем злых духов. Потребуется еще не один век, прежде чем Англия подвергнется централизации и христианизации, постепенно подходя к утраченным достижениям Римской Британии – но это будет уже совсем другая страна, прочно входящая в орбиту северогерманского мира, окруженная с севера, запада и юго-запада враждебными осколками уничтоженного ею кельтско-британского мира. О вековечной вражде англичан с шотландцами, ирландцами, валлийцами широко известно всем. Но об истоках ее задумываются редко. А они – все в той же гибели Римской Британии. То, что для нас – разные слова, «бритт» («валлиец») и «раб», для англосаксов обозначалось одним словом – wilisc/wylisc или wealh[1] (мн. ч. wealas).
Потом и англосаксонская Англия станет жертвой захвата и геноцида со стороны нормандских завоевателей (1066 г.), хотя, откровенно говоря, даже кровавые походы Вильгельма Завоевателя на север страны, приведшие к тому, что он почти обезлюдел, меркнут по сравнению с резней, учиненной англосаксами бриттам. И дальше, довольно неожиданно, в «новой», англо-нормандской Англии вдруг возникнет интерес к римским корням своего государства. Поэты и хронисты позднего Средневековья будут писать о том, что Лондон основал не кто иной, как некий Брут Троянский, прямой потомок троянского героя Энея – фактически прародителя римлян (это придумал Гальфрид Монмутский), иначе – просто римский консул (как сочинил Ненний, который даже переделывает его имя в эпоним – «Бритт»), в котором также нередко даже видели реального Брута Старшего, свергнувшего последнего римского царя Тарквиния Гордого; великий Чосер в «Рассказе Юриста» делает византийского императора Маврикия сыном английского короля Нортумберленда Аллы (Аэллы). И так далее. Широко разовьется раннехристианская тема, которая просто неотделима от римской Античности: святой Грааль, мистическая чаша, которую искали рыцари короля Артура, – не что иное, как чаша, из которой Иисус Христос потчевал своих апостолов на Тайной вечере перед Страстями, а привез ее в Британию его тайный ученик, библейский Иосиф Аримафейский, заодно ставший предком самого Артура. Устойчивым станет предание о британском происхождении св. Елены – матери императора Константина. Уже в эпоху Ренессанса английские драматурги будут обращаться к полулегендарной истории Британии, начиная с Нортона и Сэквилла с их «Горбодуком» и кончая великим Шекспиром с его «Цимбелином, королем Британии» (реальном королем тринобатов начала н. э. Кунобелине) и знаменитейшим «Королем Лиром» (Леиром Гальфрида Монмутского, кстати, прапрапрапрапрадедом Горбодука).
С течением веков перейдя от этой англо-нормандской мифологии к практическому изучению своих древностей, английские лорды и сквайры с подлинным энтузиазмом начнут раскопки в своих владениях, не без доли хорошего снобизма демонстрируя затем свои находки знакомым и соседям. «Пионером» в этом деле был Джон Обри, друг философа Т. Гоббса, с увлечением копавшийся в Уилтшире, пока вокруг бушевало пламя гражданской войны, и опубликовавший по поводу своих раскопок книгу в год казни короля Карла I (1649). И это повальное увлечение до сих пор приносит интереснейшие плоды: только в 2023 г. были найдены несколько кладов римской эпохи, 2000-летний деревянный мост на границе Англии и Уэльса, прекрасно законсервировавшийся в грязи, и потрясающее мозаичное изображение безбородого Христа в одеянии римского патриция (уже не первое, одно из подобных уже хранится в Британском музее). Словно трудолюбивые кроты, отдельные энтузиасты с металлоискателями и целые общества таковых неустанно перепахивают земли Британии, внося свои лепты в историю отечества (читатель может не поверить, но зачастую этих копателей наводят на след древних поселений настоящие кроты, в процессе землепроходческой деятельности выбрасывающие на поверхность древние монеты и осколки керамики).
Естественно, учитывая все новонайденное и новооткрытое, англичане скрупулезно вносят коррективы и дополнения в издания, посвященные истории своей страны, благо, у автора есть возможность щедро черпать из этого кладезя (см. библиографию, из новейших исследований интересны работа профессора Д. Хардинга о железном веке в Северной Британии, книга лектора Бирмингемского университета Э. Клиари о конце Римской Британии и прекрасная хрестоматия античных текстов, надписей и римско-британских монет С. Айрлэнда – старшего лектора Уорикского университета). Часть подобной литературы переведена на русский язык, из солидных работ стоит отметить книги С. Пиготта, Э. Росс, Т. Пауэлла и свежайший труд М. Адамса «Первое королевство. Британия во времена короля Артура» (издан в Англии в 2021 г., в России – в 2023-м), хотя данный автор порой как-то чересчур уж своевольно обращается с хронологией и горазд на остроумные гипотезы, нуждающиеся, однако, в более серьезной аргументации. Наша историческая литература, в целом, обходит эту тему молчанием, не считая обзорных упоминаний в трудах по общей истории Англии или в жизнеописаниях Юлия Цезаря (см.: С.Л. Утченко, В.С. Дуров и др.), и отдельных статей разного рода объема и качества; исключение составляет работа Н.С. Широковой «Римская Британия. Очерки истории и культуры». Труд капитальный, глубоко научный, объемно представляющий этапы овладения римлянами Британией вплоть до деятельности наместника Агриколы (несколько глав ранее публиковались в виде статей в альманахе «Мнемон», журнале «Проблемы истории, филологии и культуры»), но после этого полностью прекращающий хронологически излагать дальнейшую историю Римской Британии, которой предстояло существовать еще почти три с половиной века, и освещающий лишь отдельные культурологические вопросы, не давая всеобъемлющей картины, что, однако, и отображено в его названии. (Впрочем, после выхода указанной работы продолжают появляться новые статьи автора, частью освещающие совершенно новые религиозно-культурологические аспекты жизни Римской Британии, частью дополняющие прежние публикации.) Также есть ряд работ, посвященных отдельным вопросам – например, жизни и творчеству Гильды Премудрого с переводом его произведений и житий (Н.Ю. Чехонадская). Еще существует небезынтересная в некоторых отношениях, но довольно жестко критикуемая работа А.В. Речкина «Королева железного века против Рима», посвященная восстанию Боудикки; она основана на трудах Диона Кассия и Тацита, затрагивая попутно много смежных тем.
Не претендуя на всестороннее освещение жизни Римской Британии, автор постарался приблизиться к этой цели, насколько возможно. Как всегда, бесценные сведения по многим вопросам предоставили греко-римские классики – в первую очередь сам Гай Юлий Цезарь, изложивший хроники своих походов в Британию, также Гай Корнелий Тацит – автор не только знаменитых «Анналов» и «Истории», но и куда менее известного жизнеописания Гнея Юлия Агриколы – британского наместника и, по совместительству, тестя Тацита (так что, в исторической перспективе, Агриколе не менее повезло с зятем, чем Тациту – с тестем); ну и, конечно, Гай Светоний Транквилл, Дион Кассий, Плутарх, Страбон, Павсаний, Диодор Сицилийский, Плиний Старший, Геродот, Фронтин, Афиней, Геродиан, Аммиан Марцеллин, Лукан, Евсевий Кесарийский, Евтропий, Аврелий Виктор, Зосим, Прокопий Кесарийский, Клавдиан, Иордан, равно как и древние местные историки, в первую очередь – свидетель гибели Британии св. Гильда Премудрый и «отец английской истории» св. Беда Достопочтенный, а также анонимные авторы ирландских эпических саг. Они «заговорили» с нами благодаря трудам таких переводчиков, как М.М. Покровский, Г.А. Стратановский, С.Н. Кондратьев, А.С. Бобович, Г.С. Кнабе, М.Л. Гаспаров, А.В. Махлаюк, М.Н. Ботвинник, И.А. Перельмутер, А.Б. Ранович, Н.Т. Голинкевич, Ю.А. Кулаковский, А.И. Сонни, Л.Е. Остроумов, А.И. Донченко, В.С. Соколов, Н.Н. Болгов, И.Ю. Шабага, Р.Л. Шмараков, Е.Ч. Скржинская, Н.Ю. Чехонадская, В.В. Эрлихман, А.А. Смирнов, В.Г. Тихомиров, Н.А. Богодарова, С.Лопухова и др., а также автор этой книги.
Отдельное предуведомление касается географических названий; здесь автор счел возможным последовать примеру предшественников, употребляющих в равной степени названия древние и современные. В принципе, этот подход хотя и не идеален, но лучше других: употребление исключительно древних наименований затруднит читателю ориентировку на современной карте, употребление исключительно современных будет выглядеть явным анахронизмом (что-то вроде «это было, когда половцы напали на Советский Союз»), постоянное дублирование лишь увеличит и без того немалый объем книги; каждый раз выбор формы диктовался отдельными соображениями, не говоря уже о том, что топонимы в цитатах править не принято. Это же касается употребления названия самого острова, поскольку в сочинениях древних авторов оно фигурирует и как «Британия», и вместе с тем – «Бретания» (не путать со французской Бретанью, которая тоже порой будет упоминаться) и «Британния», не говоря уж об эллинизированных формах типа «Вретания», «вританнийский» и т. п.
Глава 1
Заря Британской истории. Британские кельты. Друиды
Именовать Британию Англией ранее ее захвата англосаксами не только исторически неверно, но и полного осмеяния достойно. Не могло быть Англии до англичан. А вот в случае с «добриттской Британией» нам все же придется так поступить. Ведь кельты, в том числе бритты, были далеко не первыми завоевателями или, если угодно, мигрантами, ступившими на далекие островные берега и впоследствии давшими Британии ее имя. А вот как звалась Британия до них – мы не узнаем никогда. Ибо письменная история Британии началась уже при кельтах, и то – благодаря грекам и римлянам! Как метко, хотя и не очень верно (как мы увидим) заметил П. Сэлуэй, «Цезарь поместил Британию на римскую карту». А что же до этого?..
Покопавши, получаем, что одно из древних имен будущей Великобритании все же известно: как ни парадоксально это звучит на первый взгляд, – Альбион. Почему парадоксально? Потому что общеизвестно (а так всегда говорят, когда хотят придать правдивый вид устоявшемуся заблуждению), что это наименование дали римляне, узрев белые скалы Дувра (alba по-латыни – «белая»). Так – да не так. Ибо еще задолго до римлян остров по-кельтски назывался Альбайнн (фактически – Альбион), о чем нам поведали еще древние эллины, ибо вообще нельзя сказать, что для античного мира Британия была совсем неведомой областью.
Грекоязычный «Массалиотский перипл» (руководство к мореплаванию), датированный примерно 600 г. до н. э., от которого дошли лишь отрывки, упоминает острова Иерну (Ирландию – сравните староирл. Eriu и совр. ирл. Eire) и наш Альбион, а заодно и иберийских кельтов, «отобравших землю у лигуров». Т. Пауэлл предполагает, таким образом, что греками зафиксировано Albu – слово, которым Британию называли ирландцы еще до Х в. н. э. (вообще Albainn – «горная земля»), что идет вразрез с общепринятой теорией о том, что это римляне так назвали Британию, завидя ее белые берега. Впрочем, не исключено, что римляне просто подвели свою этимологию под туземное слово.
Эти же два топонима, а главное – впервые упомянул острова именно как Британские, видимо, Аристотель (384–322 гг. до н. э.) – или Псевдо-Аристотель – в своем произведении «О мире» – «(к северу от континента) есть два очень больших острова: Британские острова, Альбион и Иерне».
«Отец истории» Геродот Галикарнасский (484–425 гг. до н. э.) писал в V в. до н. э. о Касситеридских островах, именуемых также Оловянными (в переводе с греческого κασσίτερος и есть «олово»), имея в виду Британию: «Что же до самых отдаленных стран Европы, именно на западе, то я не могу сообщить о них ничего определенного. Я-то ведь не верю в существование реки, называемой у варваров Эриданом, которая впадает в Северное море (оттуда, по рассказам, привозят янтарь). Я ничего не знаю также, существуют ли действительно острова Касситериды, откуда к нам привозят олово. Ведь само название «Эридан» оказывается эллинским, а не варварским и придумано каким-нибудь поэтом. С другой стороны, несмотря на все мои старания, я не мог ни от одного очевидца узнать подробности об этом море на севере Европы. Впрочем, верно то, что олово и янтарь привозят из самых далеких стран. На севере же Европы, по-видимому, есть очень много золота. Как его там добывают, я также не могу определенно сказать. Согласно сказанию, его похищают у грифов одноглазые люди – аримаспы. Но я не верю, что от природы вообще существуют одноглазые люди, а в остальном естество у них, как и у прочих людей. Во всяком случае кажется, что эти окраины ойкумены, окружающие остальные земли, обладают продуктами, которые у нас считаются весьма ценными и редкими» («История», III, 115–116).
Олово, особо ценимое для изготовления бронзового оружия, охотно скупали еще финикийцы, о чем свидетельствует библейский пророк Иезекииль, передавая слова Бога насчет финикийского Тира: «Фарсис, торговец твой, по множеству всякого богатства, платил за товары твои серебром, железом, свинцом и оловом» (Иез. 27: 12). Ф. Хитти полагает, что финикийцы приобретали его в Испании (упомянутый Фарсис, по его мнению, – это испанский Таршиш у устья Гвадалквивира, он же Тартесс, в переводе с финикийского – «шахта» или «плавильня»), куда его вполне могли привозить с Британских островов. Тароватые карфагеняне, потомки финикийцев, также переправляли олово из Британии через Тартесс (ранее, ок. 530 г. до н. э., они уничтожили там торговые пункты своих конкурентов-греков), и вообще на всем участке от Нового Карфагена (совр. Картахены) до Гадеса (совр. Кадис), в Восточное Средиземноморье. Диодор Сицилийский (90–30 гг. до н. э.) пишет уже вполне конкретно о другом маршруте (пер. с англ. Е.С.): «Олово также встречается во многих частях Иберии, однако находят его не на поверхности, как о том постоянно пишут некоторые сочинители в своих повествованиях, но выкапывают из-под земли и выплавляют таким же образом, как серебро и золото. Есть много шахт для добычи олова в стране, располагающейся над Лузитанией и на островках в океане, лежащих неподалеку от Иберии, по каковой причине они и называются Касситеридами. Олово в больших количествах также доставляется с острова Британия, [расположенного] напротив Галлии, где купцы нагружают им лошадей и везут через Кельтику к массилийцам[2] и в город Нарбон – так его называют. Этот город – колония римлян, и благодаря своему удобному месторасположению обладает самым лучшим рынком в тех местах» («Историческая библиотека», V, 38, 4–5; сообщение Диодора о добыче олова в Британии и торговле им с Галлией – см. ниже). П.-Р. Жио аргументировано полагает, что этот альтернативный маршрут (от Ла-Манша до Массилии через Корбилон в устье Луары и Сену) был разработан греческими купцами Массилии в качестве контрмеры атлантической блокаде карфагенян. Некоторые ученые определенно видят в Касситеридах Корнуолл, Ф. Хитти и английские комментаторы Диодора – еще более конкретно – острова Силли неподалеку от оконечности Корнуолла; некоторые, напротив, полагают, что речь идет не о Британии, а о неких частях Франции или Испании. Преобладает первая точка зрения, а в защиту карфагенско-британской торговли приводят свидетельство греко-римского писателя Страбона (63 г. до н. э. – 21 г. н. э.), повествующее о доблести финикийского капитана и благодарности ему его государства: «Если плыть отсюда (с Книда и Родоса. – Е.С.) в южном направлении, то там лежит Ливия. Самая западная часть побережья этой страны только на незначительное расстояние простирается за Гадиры, далее это побережье образует узкий мыс, отступая к юго-востоку, и затем постепенно расширяется до того пункта, где достигает области западных эфиопов. Этот народ живет дальше всего к югу от территории Карфагена, и [его область] достигает параллели через Страну корицы. Но если плыть от Священного мыса в противоположном направлении до так называемой страны артабров, то плавание пойдет к северу, причем Луситания (теперь Португалия. – Е.С.) останется справа. Тогда весь остальной путь будет лежать на восток, образуя с прежним курсом тупой угол, до мысов Пиренеев, простирающихся до океана. Западная часть Бреттании лежит против этих мысов к северу; точно так же острова под названием Касситериды, находящиеся в открытом море, приблизительно на широте Бреттании, лежат к северу напротив артабров. Отсюда ясно видно, насколько сильно западные и восточные оконечности обитаемого мира сближены по длине омывающими их морями» («География», II, 5, 15). «Олово добывают как в стране варваров, живущих за Луситанией, так и на Касситеридских островах; и с Бреттанских островов его ввозят также в Массалию (совр. Марсель. – Е.С.)» («География», III, 2, 9). «Касситеридских островов 10; они лежат поблизости друг от друга в открытом море к северу от гавани артабров. Один из них пустынный, на остальных же обитают люди, которые носят черные плащи, ходят в хитонах длиной до пят, опоясывают груди, гуляют с палками подобно богиням мщения в трагедиях. Они ведут кочевой образ жизни, по большей части питаясь от своих стад. У них есть оловянные и свинцовые рудники; эти металлы и шкуры скота они отдают морским торговцам в обмен на глиняную посуду, соль и изделия из меди. В прежние времена только одни финикийцы вели эту торговлю из Гадир, так как они скрывали ото всех путь туда. Когда римляне однажды пустились преследовать какого-то финикийского капитана корабля, чтобы самим узнать местонахождение торговых портов, то этот капитан из алчности намеренно посадил свой корабль на мель, погубив таким же образом своих преследователей. Сам, однако, он спасся на обломках разбитого корабля и получил от государства возмещение стоимости потерянного груза. Тем не менее римляне после неоднократных попыток открыли этот морской путь. После того как Публий Красс переправился к ним и увидел, что металлы добываются на небольшой глубине и люди там мирные, он тотчас сообщил сведения всем, кто желал вести с ними торговлю за морем, хотя это море шире того моря, которое отделяет Бреттанию от материка» («География», III, 5, 11).
Есть еще фраза Плиния Старшего (23–79 гг. н. э.) о том, что «Мидакрит первым привез олово с Касситерид», причем в его Мидакрите видят искаженное финикийское «Мелькарт». И если эти свидетельства довольно туманны, то Руф Фест Авиен в своей поэме «Морские берега», как полагает А.В. Волков в своей работе «Карфаген. “Белая” империя “черной” Африки», цитировал не дошедший до нас отчет мореплавателя Гимилькона, брата «африканского» мореплавателя Ганнона – автора знаменитого «перипла» – описания морского путешествия в Западную Африку, чудом сохранившегося в греческом переводе. Считается, что Гимилькон доплыл до Южной Англии и Уэльса. Одна беда – совершенно ничего из карфагенско-финикийских артефактов в Туманном Альбионе доныне не найдено, по крайней мере – того времени, поскольку Ф. Хитти пишет: «Единственная финикийская надпись, найденная до сих пор в Британии[3], вероятно, сделана легионером-ремесленником, очевидно карфагенянином, и датируется первым веком римской оккупации»[4]. Однако далее он пишет, приводя интереснейшее свидетельство в пользу древних ирландско-финикийских связей: «Питри нашел в древней Газе крученые золотые серьги ирландского, по его мнению, происхождения, которые он датирует 1450 г. до н. э.». Все же финикийская торговля с Туманным Альбионом стала настолько хрестоматийным утверждением, что редко какой страноведческий опус без него обходится, – например, Л.Е. Кертман пишет: «В древнейшие времена разработки велись главным образом в юго-западных и западных горных районах, в особенности в Корнуэлле. Залежи олова здесь так велики, что местные племена торговали им с мореплавателями из далекой Финикии. Торговле с финикийцами способствовали благоприятные географические условия. Окружающие Великобританию моря не замерзают благодаря теплому Северо-Атлантическому течению, а берега ее изобилуют удобными заливами и бухтами».