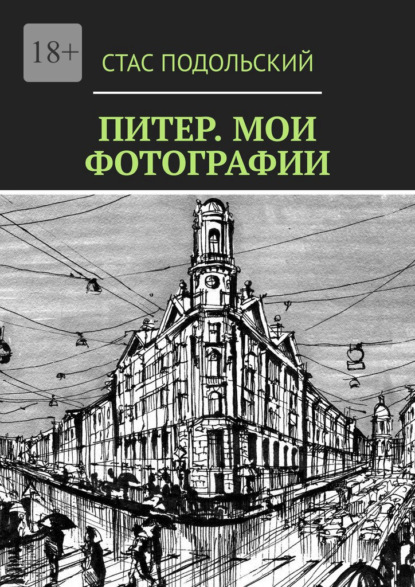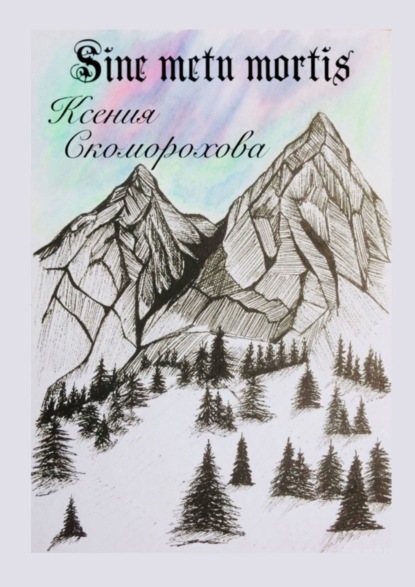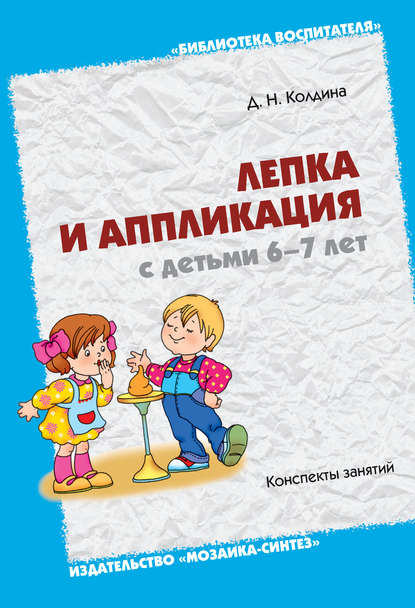- -
- 100%
- +

Благодарности:
Поклон за помощь в создании этой книги Петру I и ⠀⠀⠀⠀⠀⠀Ю.А. Большаковой
© Стас Подольский, 2025
ISBN 978-5-0067-4433-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Многие путешественники, впервые прибывшие в город Петра, совершают одну и ту же ошибку: пытаются за один раз объять необъятное – посмотреть, как можно больше, а лучше, решают они, вообще ВСЁ!
В итоге остаётся в голове полнейшая каша и на вопрос: «Что вы там видели?» – озадаченно отвечают: «Ой, столько всего красивого…» – и на этом рассказ заканчивается.
Туристы, подобно человеку, долго сидящему на диете, дорываются до самого лучшего на Земле шведского стола, но не успевая насладиться вкусом каждого кушанья, объедаются и получают перенасыщение желудка (в нашем случае – переполнение информацией и эмоциями).
Я, будучи с детства влюблённым в этот ВЕЛИКИЙ ГОРОД, попытался, как в дорогом ресторане, угостить дегустаторов – путешественников очень маленькой порцией главных экскурсионных блюд Петербурга. Постарался раздать читателям любопытные крючки – зацепки, чтоб оказавшись в том или ином уголке Северной Столицы, экскурсант сообщил своим друзьям: «Это, как раз, здесь было/произошло/случилось…» (то или иное событие, о котором можно прочитать в этой книжке).
Может быть, какое-то изысканное кушанье всего лишь легенда, какое-то – имело в своём составе немного другие ингредиенты, но таков уж этот город: он состоит не только из официальной истории, уцелевших старинных зданий, дворцов, улиц, мостов, музеев и парков, но ещё и из легенд, мифов, призраков, невероятных событий и преданий, что несомненно добавляет пикантности этому сказочному блюду для самых требовательных туристов – гурманов, приезжающих сюда со всего мира.
Уверен в одном: с этой книгой или без неё, но единожды, со вкусом, отведав этот город, вы навсегда останетесь его пленником, его ценителем, его фанатом, его гурманом.
Я очень постарался хоть чуточку Вам в этом помочь.
Ну что, готовы?
Поехали, не торопясь!

Питер. Мои фотографии.
Аэропорт Пулково. Подходит таксист:
– Добрый день, Невский проспект – тысяча рублей.
– Спасибо, нас уже встречают.
– Извините, что побеспокоил.
Здравствуй, мой родной Петербург!

С собой в рюкзаке кофта и непромокаемая куртка. За день раз пять успел их попеременно снять и надеть. При этом всё равно и мокрый, и вспотевший, и замёрзший.

Долго стоял у ворот Михайловского замка – сейчас должен выйти император Павел со свитой. Выкатилась толстая тётка в бейсболке, что-то крича Коле в трубку про холодильник. Слава Богу, быстро ушла в сторону Фонтанки.
Опять стою жду Павла.

В этом доме жил Некрасов. Самый никакой трёхэтажный на Литейном. Если б не Николай Алексеевич, его бы первым снесли. Читаю мемориальные доски: ещё и Пирогов тут, и Фигнер, и Чернышевский, и Добролюбов. Во как. И все Николаи. Точно, этот Николаевский дом не снесут.
Ё-моё, ну какой же он никакой.

На Невском – дворец Строганова. Прямо на берегу Мойки. Молодая Екатерина, ещё принцессой, в тайне от Елизаветы и мужа своего Петра III, сюда на тусню бегала. Хозяин – забавный старик был. Явил Миру крепостного своего – Андрея Воронихина, который Казанский собор построил. Первый русский архитектор Петербурга, кстати. А ещё про графа говорят, что хлебосольный он был сильно. И чтоб всем гостям мяса хватило, приказал Строганов его мелко порезать, протомить в сковороде и с пюре подать. Злые языки утверждают, что гостеприимство ни при чём, просто, так он экономил очень дорогую в ту пору говядину. А совсем злые утверждают, что у графа с зубами были проблемы, а мясцо он любил, вот, повар и придумал для него блюдо, чтоб жевалось легко.
Так или иначе, но оставил граф человечеству говядину от Строганова. Мы её сейчас зовём на английский манер – «бефстроганов». И спасибо ему за это, а уж благодаря жадности или хлебосольству – оставим этот вопрос стоматологам.

Если медь долго окислять, она становится зелёной. Учитывая петербургский климат, ОНИ почти за два века, другими и не могли стать. Хотя Стасов, наверное, задумывал Нарвские триумфальные ворота красными. Поставил их на новом месте. Старые ворота, наспех построенные Кваренги, через которые полки возвращались из Парижу, стояли ближе к парку. Когда меняли русло речке Таракановке, старые подразвалившиеся снесли, а установку новых перенесли метров на двести. Представляете гений архитектора: за полтора столетия предугадать, где будет станция метро! Кстати, теперь, когда размеры чего-либо не очень точные – петербуржцы так и говорят: «Плюс – минус Нарвские ворота».

В этом городе нет времён года. Вернее, их три: жарко, холодно и очень холодно. По дождю или снегу определить сезон невозможно. Зато в Петропавловке точный прогноз погоды доступен каждому. Запоминайте: ровно в полдень надо внимательно посмотреть на шпиль, над которым летает золотой ангел: если ангел не виден – значит сейчас льёт дождь, если он виден – значит, скоро будет дождь. Или снег.
Когда только что приехавший спрашивает у местного:
– У вас давно идёт дождь?
Тут же получает ответ:
– С 1703 года.

Чернышев мост на Фонтанке. Красавец. Стоит такой, с башенками. Раньше цепи среднюю часть поднимали, чтоб высокие лодочки проплывали. На ночь тоже его всегда разводили: и волки не прибегут в город, и бандиты. Так в первозданном виде, больше двухсот лет этот мост и украшает город. Только теперь его створки вообще не поднимают. ВолкОв перестреляли, бандиты сейчас шляются свободно в обе стороны – смысла нет разводить. А рядом построили другой мост – Лештуков, он никогда не разводился и башен на нём никогда не было, стоит себе такой: никого ни в чём не ограничивает. Так себе мост, одно слово – безбашенный. Кстати, отсюда этот термин и пошёл в народ. А Чернышев мост на карте больше не ищите, его нет, он теперь называется – мост Ломоносова. Неудачное переименование – Михаил Васильевич, как раз, точно был безбашенный.

А знаете, где в Петербурге памятник Сталину с верблюдом? Правда, есть! Нет, не шучу – в Александровском саду. Только не читайте, что на нём написано. Может опечатка? Пишут, что какому-то Пржевальскому. Ну, хорошо, ладно, верю, ему – изобретателю маленькой лошади. Но ведь он как две капли воды похож на отца всех народов. А ещё, если покопаться в истории, можно узнать, что почему-то отец Виссарион не сильно любил своего сына Иосифа, да и похож тот на отца не очень был. Ну и совсем интересно становится, когда находишь в описаниях путешествий Пржевальского версию, что он, перемещаясь со своей экспедицией по Кавказу, в 1878 году останавливался именно в Поти…

Не уходим из сада. Идём вдоль Адмиралтейства, любуемся на фонтан, рассматриваем памятники, сидим на скамеечках, читаем новости в телефоне. Точно так же в 19-м веке почтенная публика гуляла. Только обмен новостями в отсутствие гаджетов приходилось делать лично с собеседником. Можно громко, можно на ушко. Всё от новости зависело. Известно одно: все самые свежие сплетни и слухи быстрее всего получалось услышать именно здесь, на бульваре у Адмиралтейства. Газетчики, кто пошустрее, самую клубничку собирали и бежали наперегонки в свои издательства. Так и возникло такое понятие, как «бульварная пресса». Отсюда всё и началось, из Адмиралтейского сада/бульвара.

Гуляем по Коломне. Остановились у арки одного из домов. Двор, как и все соседние, закрыт металлическими воротами и калиткой с кодом. Сзади женский голос:
– Извините, пожалуйста, а вы здесь живёте?
Оборачиваюсь. Стоит классическая питерская старушка, очень низенькая, в длинном платье и вязаной кофте с большими накладными карманами, на ногах штиблеты, помнящие её первого жениха молодым.
– Нет, – отвечаю, – просто очень люблю этот город и где-то читал, что здесь красивый двор.
Старушка расцвела:
– Друзья, он не только красивый, но и полон исторических событий. Да здесь все дома по-своему интересные. Пока у меня есть время, если хотите, я вам тут всё покажу.
Мы с радостью согласились:
– С удовольствием!
– Тогда пойдёмте за мной, меня Вера зовут.
Мы представились. Старушка с пятого раза победила кодовый замок и повела нас в арку двора:
– Дорогие мои, вы даже не представляете, сколько здесь всего интересного раньше происходило, сколько известных личностей тут побывало.
– Расскажите, очень интересно.
– Конечно, всё расскажу. Только секундочку, сперва скажу два слова строителям, они вон смотрите, негодники, мне своим мусором кухонное окно завалили. Попрошу, чтоб убрали, и так солнца в окне почти нет.
И она показала нам старенькое окошко на первом этаже – деревянная рама, давно не крашенная, под ней лежат, практически до середины, строительные мешки.
– Пойдёмте, как у вас, молодых, говорится, на разборки – и Вера по-стариковски захихикала.
Недалеко от мусорной горы курил молодой парень в майке, трико и шлёпанцах. Тут наша Вера приосанилась, и заложив два пальца в рот, ОЧЕНЬ громко свистнула. Строитель вздрогнул, поднял на неё глаза.
– Слышишь, ты, урод, в глаза мне смотри, ты чё тут навалил? – загромыхала на весь двор Вера, – чтоб быстро это всё убрал, иначе откушу тебе голову тупую и забью, знаешь куда? В жопу твою немытую.
– Да что вы кричите, да, мы, это, сейчас, здесь, тут – заблеял парень.
– Я два раза повторять не буду, понял меня? Ты уже почти инвалид! – не снижала оборотов старушка.
Мы стояли рядом, пооткрывав рты. Что делать, смеяться или убегать? А то ведь и нам от пожилой леди прилетит.
– В общем, я ушла. Чтоб через полчаса всё было убрано. Ты запомнил, недоносок?
Вера поставила точку в разговоре с ремонтником, повернулась к нам:
– Ну вот, друзья мои, пойдёмте через этот колодец дворов, я вам покажу замечательный барельеф прямо на брандмауэре. А потом мы сходим к дому, где жил молодой Пушкин. Именно там им была создана поэма «Руслан и Людмила»…
Не мешая строителю убирать за собой мусор, мы за истинной петербурженкой Верой посеменили в соседний двор.


Александр Сергеевич был ещё тот путешественник. Правда, его лютый друг Бенкендорф, глава Третьего отделения, не особенно поощрял всякие поездки, зажимал нашего поэта. Но по Петербургу Пушкин поколесил изрядно, здесь его никто не ограничивал. Тут наш светоч жил с дядей Лёвой, тут – с родителями, тут с Наташей познакомился, тут с Дантесом первый раз поругался, тут с ним же случился конфликт в третий раз, тут служил после лицея дипломатом в Министерстве иностранных дел, тут в картишки рубился, полгонорара от издания «Евгения Онегина» просадил. Каждый второй дом центра города отмечен присутствием великого поэта. Разносторонний был наш Александр Сергеевич. Ох, разносторонний. Одно из немногих мест, где никаких следов Гения пушкинисты так и не нашли – это здание таможни на стрелке Васильевского. Ну не был он там. Наверное, дел никаких министерских у него к таможне не возникало, да и барышни интересующие поэта там видимо не служили. Теперь, внимание, вопрос для самых интуитивных: в каком историческом здании Санкт-Петербурга открыт музей нашего великого поэта Пушкина? Правильный ответ: да, в здании таможни. Как-то так.
Зато точно известно, что здесь трудился Радищев. Аж до начальника дослужился. Но быстро убрали бедного Александра Николаевича – очень многие недовольны им были. Например, за то, что он взятки совсем не брал. Нет, не шучу. Начальник таможни не брал взятки! Кому это понравится? Никому. На него даже императрице жаловались, просили войти в их положение. Екатерина и вошла – убрала его. Радищев с горя путешествовать уехал, до самой Москвы добрался. А по дороге, что видел, то и записывал. Мыслями своими крамольными бумагу марал. Слышали небось про «Путешествие из Петербурга в Москву»? Сплошное очернение госаппарата и помещечества! Словом, задвинули нерадивого. И поделом!

Стою у памятника Пушкину. Интересно, а как Александр Сергеевич относился к голубям при жизни? Что-то мне подсказывает: недолюбливал. А они его обожают. Всего.
Часто в отечественной истории так и бывает.

Стояла церковь на Знаменской площади, в которой ещё Павлов службы служил. Да – да, тот, что собак мучил. А после издевательств над четвероногими опять в этой церкви проповеди читал, причём даже после Революции. Большевики вскоре эту халупу снесли (захотите, найдёте её фото) и построили свой храм – вестибюль станции метро Площадь Восстания. Очень интересные барельефы там внизу появились. Прямо музейные экспонаты. На одном из них последний Сталин в Петербурге помогает Ленину речь толкать. Больше вы Иосифа Виссарионовича нигде в городе не найдёте: ни на картине, ни в памятнике, ни на мозаике. На другом барельефе – уже привычный нам всем Ильич в Разливе. Непосвященному непонятен подтекст – ну Ленин, как Ленин, сидит себе на брёвнышке, кепочка, бородка, усы. В чём прикол? К кепочке как раз вопросов нет, а вот усы и бородку Ильич сбривал, пока в Разливе прятался. Но скульптор побоялся, что зритель Ленина только по кепке не узнает и сохранил нам его в привычном виде, не отправляя вождя к цирюльнику. Но ещё забавнее другое: Владимир Ильич увлеченно разговаривает с …. воздухом. Ну нет рядом с вождём никого. Сейчас нет. А раньше с ним Зиновьев сидел и активно поддерживал беседу. Потом он записался в банду Троцкистов – Зиновьевцев и пришлось Григория Евсеевича отколупливать за его революционную близорукость и выкинуть куски барельефа на мусорку истории. Предал он дело большое – большевистское. И вождя в лесу бросил в полном одиночестве. Теперь сидит обросший Ильич один – одинёшенек и революционные лозунги в пустоту сообщает. А не надо было изначально церковь трогать!

Знакомую встретил рядом с особняком Штиглица. Разговорились. Давно перебралась в Питер, купила квартиру, всем довольна, сказала, что работает по специальности.
– А ты что заканчивала?
– Культура, Искусствоведение.
– И что, сегодня можно по твоей СПЕЦИАЛЬНОСТИ устроиться?
Заулыбалась, стоит, уже не прячась под козырёк от дождя (совсем местная стала):
– В этом городе ещё можно.
– Да ладно..
– Больше тебе скажу: зарплата хорошая и предложений много, приходится выбирать. Спрос на нашу профессию растёт.
Пожелал удачи. Попрощались. Бреду по Соляному и думаю: может, правда, рано заколачивать крышку, а если шанс ещё есть? Она прямо же сказала: «Спрос растёт». Коль в семнадцатом Империя закончилась в этом городе, а вдруг из него же сегодня начнёт возрождаться? Дайте хотя бы помечтать.
Когда потеряна вера, Питер дарит надежду.
Нет, правда, так и сказала: «Спрос растёт»!!!

Угадайте, что в XIX веке разъяснялось в словарях как «маленькое загородное увеселительное заведение»? Так определялось значение слова «Вокзал»!
В начале XVII века в Англии, некая Джейн Вокс в своём маленьком загородном поместье начала проводить балы, концерты, творческие вечера. Публика к ней повалила, поместье стало популярно. Отсюда это слово и появилось: Зал госпожи Вокс, сокращенно – Вокзал. Первым железнодорожным вокзалом в Санкт-Петербурге, а, следовательно, и в России, стал Царскосельский, ныне – Витебский. Вот специально ничего рассказывать не буду, просто поднимитесь по правой парадной лестнице и посетите зал ожидания (он тоже справа от лестницы), а потом выйдите к перрону. Сходили? До мурашек? Завидую.
У меня всё.

Ещё Плеханов предупреждал народовольцев: «Нет смысла убивать царя – был Александр с двумя палками, станет с тремя». Не послушали буйные головы, взорвали Александра II, пришёл Александр III (три палки). А по ощущениям населения – и все четыре. Досталось тогда и народовольцам, и многим ещё. В память об отце Александр с тремя палками построил собор – Спас на крови. Возвёл прямо на том месте, где папу и убили. Что интересно – из казны ни копейки не потратил. Почти все губернии России изъявили желание поучаствовать средствами в строительстве. Так все любили царя – освободителя. Храм получился сказочный – жемчужина Петербурга. Волшебный. Во время войны бомба в купол прилетела и… не взорвалась, в перекрытиях застряла. Её только в 60-е годы нашли. Чудесный собор получился, как над ним только в ХХ веке не издевались – выстоял! Вот только язык не поворачивается народовольцам за него спасибо сказать. Сложно всё в жизни.

Смотрим на любую картину, посвящённую восстанию декабристов (в интернете их много). На заднем плане видим два здания: Сенат и Синод. Соединены они одной большой аркой. С той поры, как великий Росси построил это здание, в народе стали ядовито шутить: «Сенат и Синод живут ПодАрками». Всегда Россия была богата острословами.
Так, к чему я вспомнил картины с декабристами? Очень просто: восстание произошло в 1825 году, Росси же свои здания заложил в 1829-м, а закончил в 1834-м. Несостыковочка, господа!

Если хотите бюджетно посмотреть весь центр Петербурга – вам на трамвай третий номер. От конечной до конечной. Увидите некоторые центральные улицы, прокатитесь по трём главным островам города. Многие думают, что раз Питер трамвайная столица, то именно отсюда трамвай и поехал покорять Россию. Это так, но не совсем.
Согласитесь, странно: первый омнибус в Питере, первая конка – там же, а первый электрический трамвай по улицам российского города пошёл в Киеве аж в 1892 году. Вы скажете: бывает, зато второй, небось, в Питере, через год – полтора, там же улиц больше. Нет. Опять не угадали. Второй – в Нижнем, в 1896-м, потом – Москва, другие города. И только в 1907-м трамвай загремел по питерским улицам. Через 15 лет после Киева!
«Я календарь переверну и снова третье сентября…». А всё дело в том, что власти не отнеслись серьёзно к изобретению инженера Пироцкого, которое он, кстати, впервые продемонстрировал и испытал именно в Петербурге 3-го сентября 1880 года. Ну не верят у нас во всё новое. Поэтому вместо развития трамвайной сети, градоначальники заключили контракт с частной компанией на 25 лет, согласно которому организация за свой счёт прокладывает рельсы по всему городу, и за это имеет эксклюзив на работу своей конки. Вот этот договор, как раз, и закончился в 1907-м. То есть, уже и по Европе, и по России звенели трамваи, а петербуржцы продолжали пользоваться конной тягой. Царизм можно обвинить в чём угодно, но вот слово перед частным капиталом он держал!

Если протока соединяет две реки, то она называется каналом. Во всём Мире так называется. Но не в Петербурге. Есть речка такая, вы наверное, и не слышали про неё – Мойка. Она вытекает из Фонтанки и впадает в Неву. Истока нет, устья нет – классический канал, но она у них река! Чему вы удивляетесь? В Питере даже центра нормального нет: от Исаакия до Спаса, от Зимнего до Аничкова – всё центр. И нумерация домов через… голову: слева чётные, справа нечётные, и так во всём городе. На Васильевском, вообще, с виду обычные улицы, а табличку на доме читаешь – Линии. Причём на одной улице по две разные Линии. Слева одна, справа другая. Только для местных жителей это всё нормально – конечно, они же сами все такие неформальные, ну и топонимика у них такая же.

На Большой Морской красуется дом Фаберже. Найти его просто, он не самый яркий, но стоя напротив, понимаешь, что на всей улице он самый дорогой. Здесь размещались его мастерская, магазин, а на верхних этажах жил сам мэтр. Кстати, раньше так было принято: чем руководишь, там и живёшь, причём, – с семьёй! Директор завода жил у заводоуправления, генерал – в казармах, директор библиотеки – в библиотеке (баснописец Крылов, например), директор тюрьмы – рядом, в отдельном помещении или в пристроечке.
Так вот, рассказывают: у Фаберже в доме между вторым и третьим этажом висел огромный ящик с ценностями ювелирного дома, а на ночь, кроме серьёзной охраны, ещё по ящику пускали ток – так решили, что надёжнее. Богатые горожане с удовольствием несли Карлу Густавовичу на сохранение свои сокровища. И всё всегда было в целости. Только большевикам удалось подмочить репутацию ювелира – те граждане, кто в октябре семнадцатого не успел забрать свои драгоценности, потеряли их безвозвратно. Сгорело всё в пламени революции.

ГПУ имени ГАИ.
«Главное полит управление имени Госавтоинспекции» – так прочитает эту аббревиатуру человек, родившийся в СССР, и побежит у него лёгкий холодок по организму, хотя и с недоумением – какая-то нелепица.
На самом деле – это вывеска на воротах Государственного педуниверситета имени Герцена А. И., что на Мойке. А над вывеской – барельеф. Наверное, один из немногих в Мире памятников отцу: пеликан, сам себе разрывающий клювом грудь, чтоб напоить кровью своих птенцов.
До учебного заведения, ещё при царе, в этом здании находился приют для детей-сирот. Если же мать, по каким-то причинам, осознанно решала бросить своего ребёнка, она просто приносила его к воротам и оставляла. Служители забирали, не спрашивая, кто она и почему так поступает.
Исходя из этого факта, наверное, здесь, самое неудачное место в городе для памятника отцу.

Кривуша, Гнилуша, Канава…
Как его только не называли. Изначально, это была речка, вытекающая из болот, которые булькали в районе площади Искусств (где Пушкин сейчас стоит). А сегодня этот красавец – канал имени Грибоедова. Заметьте, в отличие от реки Мойки, его правильно назвали – Канал. Каждый гид расскажет про него много интересного, но не все знают, что в 19-м веке серьёзно обсуждался проект засыпки всего русла и организации на его месте бульвара с конно-железной дорогой. Таким образом хотели разгрузить работу городского транспорта. Но, слава Богу, от этой глупости отказались. Нет, не потому что поняли всю ущербность своего плана, а потому что денег в городской казне не было. А потом уже пришёл к власти наш последний император, за ним – революция… В общем, не до канала отцам города стало. Была б Россия побогаче, да постабильнее – не было бы у нас с вами этой красоты.