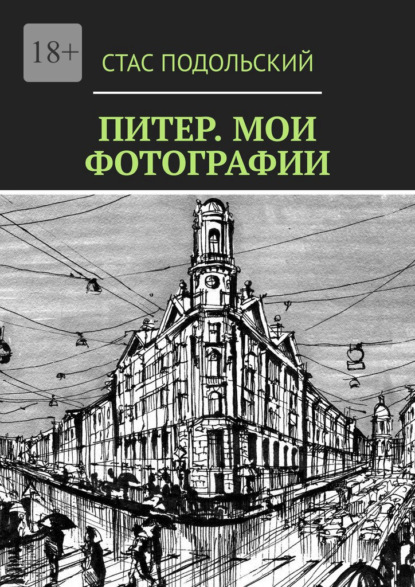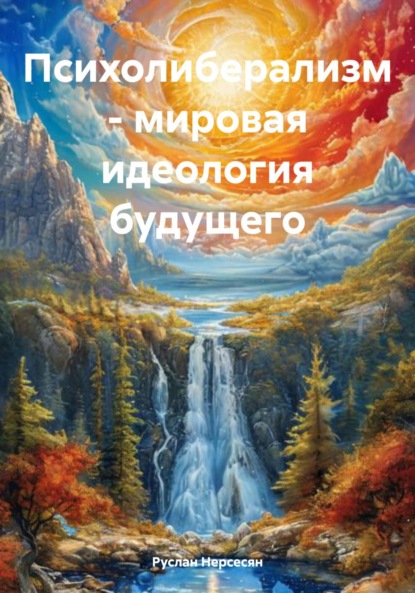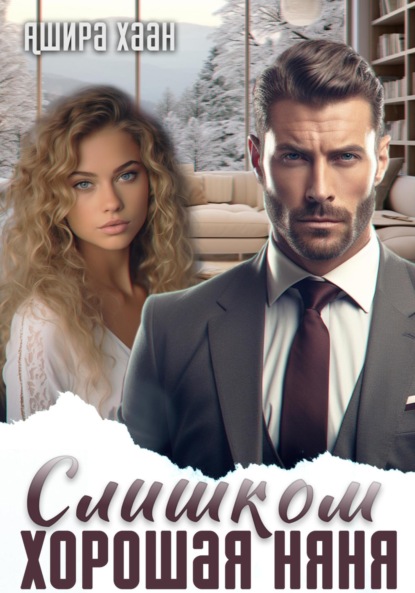- -
- 100%
- +

Нет. Не волнуйтесь. Вы всё ещё в Петербурге. Да, здесь так тоже строили. Екатерине Второй захотелось отметить место, где её в дороге застала благая весть о победе при Чесме. Вот вы, как отмечаете то место, где вам пришла благая весть? Я не спрашиваю «чем», я спрашиваю «как»? Екатерина, например, церковь Чесменскую построила. Откуда я знаю, почему именно в этом архитектурном стиле, так непохожем на всё остальное в Петербурге!
Предлагаю вам такой вариант ответа: ЗАХОТЕЛОСЬ.

Почти в самом конце Садовой, грязные питерские алкаши сидят в детской песочнице, употребляют из пластиковых стаканчиков и перебирают в руках толстую пачку пятитысячных купюр. Я расположился за кустом на лавочке, лицом к улице, органами слуха – к ним.
– Когда я их нашёл на мусорке, у меня там же и родилась эта идея.
– В гастряк пошёл?
– Ты чо, продавщица меня всего знает – сразу поймет, что это подделка, 100% закроют. Глянь сюда, они вообще на простой бумаге напечатаны и надпись, читай: «Банк приколов».
– Не понял тогда, где ты пузырь взял?
– А я тебе рассказываю. Пачку положил в карман и иду вдоль Грибанала, вижу: венки заносят в подъезд. Я туда. На втором этаже дверь открыта, куча народу и гроб стоит.
– Ты там что ли дёрнул?
– Ты учился в школе не перебивать? Сел на ступеньках, народ мимо ходит, все прощаться, типа, идут. И тут в меня мысль пришла. Очередной идёт, такой с грустным лицом, прям, типа, близкий друг там в гробу, а я ему говорю: «Плохо мне, встать не могу, кореш родной помер, ноги не слушаются, помоги – сбегай за пузырём». И пятёрку ему сую свёрнутую. На лестнице темно, ни хера не видно.
– И чё?
– Рассказываю. Я так человек десять отправил, почти все согласились, пятёрку видят – «конечно, пожалуйста», берут и, не прощаясь с помершим, вниз.
– И чё?
– Чё-чё. Ни один не вернулся. Мне прям интересно было, что им дороже, ранетого на пятёрку пристроить, или с покойником знакомым попрощаться? Все пятёрку выбрали. Так – то.
– Понятно. А пузырь откуда?
– Бабка одна вернулась, где-то через час, я уже уходить хотел, подошла ко мне и начинает: «Сынок, горе – то какое, у тебя друг помер, и пятёрку тебе фальшивую сунули, на вот, забери её». Потом достаёт из пакета этот вот пузырь и говорит: «Не побрезгай – возьми, купить не на что, так я у соседки для тебя выпросила».

Кто прав: Николай I или большевики? Первый узаконил проституцию, вторые запретили брать за это деньги. А без денег, какая ж это проституция? Так, баловство. Интересный факт, после легализации товарно – денежной любви в 1843 году государство ни с притонов, ни с индивидуалок налог не брало. Заставляло только проходить медосмотр и не шляться жрицам в особо людных местах. Тогда часть дороги у дома называлась – панель. Вот эти бабочки и искали своих ухажёров на панели. Так и закрепились в народе словосочетания «панельная, выйти на панель и т.д.». Да так крепко вошло в обиход, что пришлось для благозвучности переименовать панель в тротуар. Панельных, слава Богу, в тротуарных не переименовывали. Теперь любой грамотный знает: выйти на панель – это плохо, выйти на тротуар – это хорошо.
Самодержцы до Николая I активно с этим явлением боролись. Особенно наши императрицы, Елизавета Петровна и Екатерина II, – они ж сами за это денег не брали, а наоборот, давали. И не только деньги, но и звания, награды, крепостных.
Вот здесь, в XVIII веке, это была самая окраина Петербурга, у Калинкина моста, сохранилось здание Калинкинской больницы, куда, возмущенная разгулом продажной любви, Елизавета распорядилась свозить падких до денег развратниц. Девы эти, кроме разложения общества, были поголовно инфицированы, а следовательно, заражали уважаемых членов высшего света. Нехорошо это!
Назвали больницу благообразно – «Прядильный дом». Потому как однодневных невест здесь не только лишали свободы, закрыв в стенах больницы, а ещё и лечили, но главное, заставляли заниматься руко…. делием. Шили там девчонки, кроили, вязали, вышивали. Видимо, надеялись власти так отучить их от плохого и приучить к хорошему. А, чтоб у девушек не было соблазна убежать, поставили целый отряд солдат для охраны. Во как боролись за здоровое общество! Правда, через какое-то время поголовно весь отряд от сифилиса и полёг.

Выхожу из метро «Василеостровская». Забавный памятник. «Конка, конка, обгони цыплёнка». Такой вот раньше транспорт был общественный. Две лошадиные силы. И одна кучерская. Интересно, как часто надо было заправлять такой трамвай, и где в центре Питера размещались эти заправки, как они выглядели?

В каждом городе есть свой неформальный символ: в Туле – самовар, в Воронеже – кораблик, в Москве – куранты, в Нижнем – олень, а вот в Питере – кошки. Много кошек. Здесь всегда их было много. И отношение к ним особое. Любят хвостатых горожане, кормят, гладят. Зайдите в любой двор – удивитесь.
Исчезали кошки из Питера только однажды – в блокаду. Съели их. Всех. А после снятия кольца вокруг города да ещё при страшной антисанитарии, сильно разгулялись грызуны всякие, прямо спасу от них не было. Тогда власти приняли решение: собрать в Ярославле целый железнодорожный состав хвостатых и отправить в Ленинград. Мяучащее войско, таким образом, оперативно спасло город от многочисленных угроз и инфекций. Так что, все уличные бродяги, которых вы видите в подворотнях, с большой долей вероятности, ведут свою родословную с верховьев Волги.

Стоим в Кронштадте, рассматриваем полигональную кладку. Уникальная вещь, между прочим. Историки до сих пор не могут договориться: зачем она здесь положена, а инженеры до сих пор не могут объяснить – как? Стоим, значит, большой компанией, рассматриваем, руками машем. Подходит сильно нетрезвый человек, судя по внешнему виду, очень местный: грязная, рваная одежда, щетина, разбитое лицо:
– Да что вы здесь стоите? Пиздр..уйте (идите) туда, за гаражи, там этой х..ни (диковинки), вообще, дох..я (много).
Чтоб хоть как-то отреагировать, спрашиваю:
– Вы, видимо, местный?
– Ёб.. (конечно), у меня там гараж, я эту ху..ю (диковинку) каждый день, бл..дь (не суть), вижу.
Потом наш вновь обретённый гид здоровым глазом оглядывает свою группу экскурсантов, замечает среди нас женщин, опускает голову, прикладывает правую руку к сердцу, качаясь, но с пафосом изрекает:
– Дамы, простите моё сквернословие!
(Для справки: Кронштадт – уже давно включён в границу нашей Культурной столицы)

Вообще-то автором Медного всадника должен был быть не Фальконе, а другой скульптор, более известный. И тоже француз. Но отказался, якобы заявив Екатерине, что он страдает геморроем, а ему рассказывали, что эта болезнь в России смертельна. Намекал гадёныш на официальную причину смерти Петра III – супруга Екатерины II. Народу было объявлено, что он умер от «геморрагического инсульта».
Словом, остряк не приехал, а шестидесятилетний никому не известный Фальконе приехал. И привёз с собой свою помощницу – страстно влюблённую в него семнадцатилетнюю девицу Мари Анн Колло. Некоторые ревнители нравственности настаивают на версии, что у них были чисто творческие отношения. А неревнители говорят, что совсем даже наоборот.
И занялся Фальконе созданием шедевра: сам работал над позой коня и Петра, на нём летящего, а Мари поручил изготовить исключительно царскую голову. Рассказывают, что Екатерина лично одобрила именно её вариант лица императора.
А недавно дотошные ребята высмотрели, что у Петра вместо зрачков Мари сделала сердечки.
Женщины, как вы думаете, Колло и Фальконе были просто коллеги?

Вот почему алкаши соображают всегда на троих? Потому что в СССР можно было скинуться втроём ровно по рублю и этого как раз хватало на бутылку водки (ноль, пять) и плавленый сырок (закуска). Но только в Петербурге, и только на Владимирской площади, считалось незазорным соображать на двоих, если вдруг третий не пришёл. Объяснение простое: коль нет третьего – подходишь к Феде, берёшь его в компанию и с ним выпиваешь. Он каждого и поддержит, и поймёт. Одним словом, очень удобно поставлен памятник Достоевскому: метро напротив, магазинов полно и присесть всегда можно под деревцем рядом с Фёдором Михайловичем. Да и знал он толк в этом деле, искушенный был товарищ. С теми, кто в теме, всегда приятнее. Многие неравнодушные до сих пор «у Феди» договариваются о встрече.

После революции трудилась целая комиссия (состоящая из самых умных пролетариев, видимо, отобрали всех грамотных) по переименованию площадей и улиц. Чтоб даже в названиях покончить с чёрным прошлым и устремиться в светлое будущее. С фантазией у ребят не очень было – похоже взяли словарь антонимов и погнали. Улица Дворянская стала Деревенской бедноты, Ружейная – Мира, Офицерская – Декабристов, Рождественская – Советская, и т. д. А если улице какие – нибудь имя – фамилию человека присваивали, то обязательно для победившего класса (новых горожан) сферу занятий указывали, а то не все пролетарии в курсе рода деятельности поименованного были. Так возникли улицы: Композитора Чайковского, Писателя Радищева, Художника Репина и т. д. Это потом большевики школы понастроили, новую интеллигенцию воспитали – можно было профессии в названиях убирать. Оставили просто Чайковских с Радищевыми. А если не знаешь кто это – твои проблемы, иди книжки умные читай.
Так вот, трудилась эта комиссия, трудилась, и дошла очередь до пивзавода – надо какое-то патриотичное название придумать, но Гоголем с Пушкиным не назовешь – как-то не лепятся совсем великие русские писатели к пиву, было б хотя бы вино или шампанское. Думали – думали пролетарии – ноль хороших идей. И тут очень вовремя обед подошёл. А какой обед в доброй компании без неё, родимой? Да и ребята много умственных сил потратили – надо восстанавливаться. Восстановились изрядно. Ну, а как застолье продолжить без песни душевной, рабочие души объединяющей? Тут и грянули новые хозяева жизни «Стеньку Разина». А какому-то, не самому глупому, идея классная пришла: «А давайте так и назовём!». С тех пор ленинградцы стали пить пенное с пивзавода имени С. Разина. Да и логика улавливается: княжну он куда бросил? В набежавшую волну. Волны в море – с чем? С пеной. Ещё вопросы есть?

Напротив Московского вокзала стоит гостиница «Октябрьская». Наверное, в октябре открылась, раз так назвали. Старое здание построено вместе с вокзалом, чтоб приезжим долго не искать, где поселиться. Тогда гостиница называлась «Знаменская» (в честь площади, на которой она построена); потом, со сменой владельца, её переименовали в «Норд».
Сразу после революции много народу погибало и пропадало. Зачастую случалось так, что родители умирали и дети оставались беспризорными. Много малЫх сиротами стали. Кто скитался и попрошайничал, а некоторые в подростковые банды сбивались и шороху наводили. Дети всех возрастов, потерявшие родителей, с окраин и разорённых деревень съезжались в большие города. Ленинград это движение прочувствовал как никто другой – расплачивался за гордое звание бывшей столицы. Чтоб как-то победить эту напасть, большевики малолеток отлавливали и размещали в специальных учреждениях, где пытались их учить и перевоспитывать. Называлось такое заведение «Городское Общество Призора» (сокращённо – ГОП) и располагалось оно, как раз, в нашей гостинице «Октябрьской». Там-то и перековывали малолетних преступников в убеждённых строителей коммунизма. Правда, не всегда удачно. Вырывалось у некоторых наружу беспризорное начало, давали они прикурить мирным жителям Ленинграда. Тех, кто населял это учебное заведение, возмущённые беспределом горожане сокращенно называли «ГОПники». Так и привязалась эта кличка ко всем несовершеннолетним хулиганам и бандитам с окраин, а ведь были, наверное, и хорошие, сознательные гопники.

Пётр I, начав строить Санкт-Петербург, столкнулся с одной проблемой: вся знать старалась селиться поближе к императору. А ему хотелось, чтоб город рос вширь, прирастал окраинами. Что делать? Вот наш царь и задумал вводить культуру загородных домов: начал себе и ненаглядной своей Катюше строить резиденции подальше от центра. А чтоб знать активнее застраивала пригороды, стал бесплатно раздавать приближённым земли. Подаренный царём участок земли назывался – дача от императора (от слова «дать»). Так и появился термин – «дача». Я вот думаю: раз сейчас землю бесплатно нам не раздают, то не на дачах мы теперь живём, а на куплячах.

Одной из первых квартир дедушки Ленина в Петербурге была маленькая комнатка в Большом Казачьем переулке. Очень скромно жил тогда наш главный революционер: кровать, стол и буржуйка. Рукомойник наличествовал, а вот всё остальное – увы, не предусмотрено. Тут теперь целый музей открыли – можно зайти ознакомиться. А буквально в ста метрах, на этом же переулке, располагались общественные бани. Здесь будущий вождь мог восполнить отсутствие удобств. Но вот ходил ли в эти купальни Ильич – вопрос. Не до мытья ему тогда было: революционная борьба много времени отнимала. Хотя вполне мог пару раз и забежать, чтоб чаяния рабочего класса получше изучить. Даже допускаю, что однажды, когда будущий вождь сидел на деревянной скамье с тазиком, а мимо его глаз проходили обнажённые пролетарии, может, именно в этот момент Ильич почувствовал приближающийся конец царского режима.
В те времена весь Петербург ходил в бани. Были они и для бедных, и для богатых, и для неприлично богатых. Для последних: и мрамор тебе повсюду, и ресторация, и купель, и прислуга, и много других приятностей для души и тела. В банях для бедных – всё наоборот. Но помыться можно. Ну и цены разнились в десятки, а то и в сотни раз. Во всех банях, независимо от класса, были мужские и женские дни. А если ты сегодня сильно вспотел, но день не твой – что делать? Ничего, жди свой день. Не помрёшь. Да и вообще, в основном мыться народ шёл раз в неделю. Достаточно было. Не потей! Правда, некоторые владельцы додумывались – делали мужское и женское отделение. Но всё равно, каждый день мыться уважаемый горожанин не ходил. Максимум два раза в неделю. Так в Питере и хромала гигиена, пока в самом конце позапрошлого века в домах не стали ванны появляться. Но бани эту напасть пережили и продолжали функционировать. На Большом Казачьем и сегодня парная работает. Надеюсь, что рядом не снимает комнатку какой-нибудь очередной наш будущий вождь. Хватит уже! Пусть он в баню идёт.

Если идти от Гостиного в сторону Сенной площади, прямо напротив Апраксина двора, стоит массивное здание за очень высоким забором. Ну очень высоким. Мощный такой, из стальных прутьев. Один из самых больших в городе. А связано это с появлением в России бумажных денег.
При Екатерине II экономика развивалась, товарооборот рос, расчеты увеличивались, а следовательно железных денег нужно было таскать всё больше и больше – очень неудобно. Я уже не говорю, что взятки брать и давать становилось невероятно хлопотно, ведь они тоже пропорционально подрастали. Тогда и придумали умные головы бумажные деньги напечатать, и стали менять их на металлические по номиналу. Сильно это расчёты упростило, ну и всё остальное (вы поняли) тоже. Для этих целей Ассигнационный банк и открыли, да забор вокруг него выстроили. Он потом ещё для другого пригодился. Ниже расскажу. На первых бумажных купюрах профиль Екатерины напечатали. А так как её за глаза «наша бабка» называли, то и бумажные деньги стали звать «бабками». Так двести лет и зовут, хотя на них уже давно дедки разные.
Но вот беда: насколько Екатерина тонко разбиралась в политических вопросах, в которых она, а с нею и вся Россия, были невероятно успешны, настолько у императрицы, как и у всей империи, плохо было с экономикой. Плохо с экономикой, значит, – инфляция. Вспоминайте минувшие девяностые. Денежную массу надо из оборота выводить, как плохую, а новую (другого дизайна), как хорошую, наоборот, вводить. А так как с экономикой и при Екатерине, и при последующих царях всегда было не слава Богу, процедуру по замене купюр приходилось осуществлять достаточно часто. А куда старые денежные знаки девать? Сжигать. Причём, прилюдно. Чтоб все видели, что плохое горит, хорошее возрождается. И так по кругу. Здесь – то высокий забор и пригодился, чтоб у зрителей не возникало соблазна к огнищу подойти и что-нибудь уцелевшее себе прибрать. Так что тут, во дворе банка, на виду у обывателей, и сгорала неудачная часть российской экономики. Часто, надо сказать, полыхала.

Эйфель победил в конкурсе на строительство Троицкого моста. Но в последний момент проект отдали Батиньолю. Тоже французу. Не жалко ни разу – совершенство! Вот и посмотрим, чей шедевр простоит дольше: их башня или наш мост. Так хочется выиграть!

То, что Пётр реформировал и регламентировал все процессы в стране – ни для кого не секрет. И церкви от него досталось, и армии, и экономике, и календарю, и даже гардеробу его подданных. Перевернул царь всю Россию, побрил и переодел.
Однажды дошли у Петра руки до праздников, расписал царь – батюшка что, как и когда праздновать. Да жёстко так расписал, что аж наказывал строго, если кто не по регламенту веселился.
Рассказывают, что один боярин ослушался царя и праздновал Новый год как ему заблагорассудится, не по уставу. Пётр так разозлился, что одел уважаемого человека в красный кафтан, шапку, вручил посох и отправил его по всем домам в двери стучать и рассказывать о правилах проведения праздничных мероприятий. Так и ходил целыми днями наш первый Дед Мороз, обучая, как веселиться. Появление Снегурочки – это другая история. Она в России намного позже деда уродилась (может, потому и внучка ему, а не дочка).
Главный праздник в стране (Новый год) царь перенёс с сентября на январь и подробно указал программу празднования. Про алкоголь упомянул, про иллюминацию, гулянья, веселье, и чтоб дом обязательно хвоей украшали. Дабы не злить Петра, горожане хвоей и украсили, хотя не очень понимали, зачем? Непрактично им это казалось. Повесить – то ёлки повесили, а вот про снимать когда, им сообщено не было. Вот они и не снимали, боялись царского гнева. К лету иголки все осыпались, ветки порыжели, из домов торчали только палки. С тех пор самые ворчливые, если чем-то недовольны, всегда приговаривали по любому поводу: «Ёлки – палки»!
И они, наверное, правы!

Победителю французов Кутузову на Невском проспекте, прямо у Казанского собора, поставили памятник. Стоит такой Михаил Илларионович, уверенный в себе, палкой на петербургскую телебашню указывает, а может на тюрьму Петропавловки – они на одной линии расположились.
Рассказывают, что однажды спросили у местного краеведа:
– Вы не подскажите, Кутузов француза из Москвы же выгнал, почему тогда в Санкт-Петербурге ему памятник поставили?
– Так за то и поставили, что он Москву сжёг, а Петербург сохранил.
А может, это и не шутка?

«Женился окнами на Невский», «Лучше нефтяной скважины в Сибири – только квартира на Невском проспекте».
В XIX веке собственная квартира на центральной улице города – это невероятно престижно. А чтобы она была ещё и суперприбыльной, надо, чтоб хотя бы несколько окон, а лучше и балкон, выходили непосредственно на проспект. Если это имело место быть – вы, как минимум, очень состоятельный господин.
Все основные церемонии в российской столице происходили на этой улице: бракосочетания великих князей, послекоронационные торжества, похороны представителей царской семьи, различные праздничные шествия, другие мероприятия.
В отсутствие иных развлечений для петербургской публики это было событие номер один. Места на улице народ начинал занимать накануне. Бывало, что сутками стояли. И если сами не наслаждались этим зрелищем, то забронированные места продавали желающим. Так и предлагалось: «одно место на улице во втором ряду», «два места в первом» и т. д. Цены у окна квартиры на одно стоячее место достигали уровня месячной зарплаты рабочего. Я уже не говорю, сколько стоило арендовать всё окно. Аренда балкона – вообще целое состояние. Находились такие богатеи, которые снимали всю квартиру даже с самоваром. За такие деньги можно было дом на окраине города купить. При этом спрос всё равно превышал предложение, всем желающим мест хронически не хватало. Представляете, насколько скудно тогда со зрелищами было!
Эх, меня бы в то время отправить, да с видеомагнитофоном!


– Вот я и пришла, ты специально мне назначил свидание на Поцелуевом мосту?
– Почему специально?
– Ну не знаю, вдруг всё – таки решил, наконец-то, меня поцеловать.
– Нет, что ты! Просто это название связано с кабаком, куда полгорода выпивать ходило, он тут у моста располагался. А хозяином был Поцелуев.
– Какой ты у меня умный! Ладно, тогда пошли выпивать…

Уважаемые гости города, перед вами уникальное архитектурное сооружение: храм – недоразумение, храм – загадка, храм – история.
Первое упоминание о Сампсониевском соборе датируется 1709 годом. Заложен он указом Петра I в честь победы русского оружия в Полтавской битве. Кто был его архитектором – неизвестно, но высказывается мнение, что Трезини.
– Какой способный мальчик! Ему в этом году 17 лет стукнуло.
– Да нет же, он перестраивал через двадцать лет, а кто изначально строил неизвестно.
– Но Трезини и во взрослом возрасте так не строил, это совсем не его рука – возмущаются эксперты от архитектуры.
На что получают ответ от историков:
– А мы и не настаиваем на этой версии, мы говорим: «Возможно!»
– Тогда кто же реально автор собора?
– Возможно, Трезини.
Изначально церковь венчал один купол, но этого заказчику показалось мало, неинтересно. Он попросил приделать ещё четыре.
– А почему малые купола так плотно прижаты к основному, это же некрасиво? – спрашивают туристы, впервые увидевшие это чудо зодчества.
– А потому что их потом пристраивали – резонно отвечают посвящённые.
– А почему под главным куполом такие большие окна, а в храме так мало солнечного света?
– Потому что? – отвечают им? – Эти окна нарисованы.
– Зачем?
– Когда был один купол – они не нужны были, а когда пристроили ещё четыре, пришлось дорисовать для симметрии. Их и на колокольне, что рядом стоит, тоже нарисовали, видите вон те маленькие наверху?
– Да, видим.
– Так их тоже нет.
А ещё, рядом с собором, теперь уже нет кладбища, на котором были похоронены выдающиеся люди XVIII века: Маттарнови, Трезини, Растрелли, Миних. Просто Екатерина II запретила строить погосты ближе 100 саженей к городской черте. Горячие головы тут же бросились этот указ исполнять буквально – все захоронения сравняли. Императрица имела в виду: новые кладбища в городской черте не строить, про старые она вообще никаких распоряжений не давала. Но как бы то ни было – теперь могилы утрачены. Сделали тут парк, аллеи, тропинки с прудиком. И всё это прямо на костях великих. Сегодня, вон, народ здесь с детьми гуляет, молодожёны фотографируются.