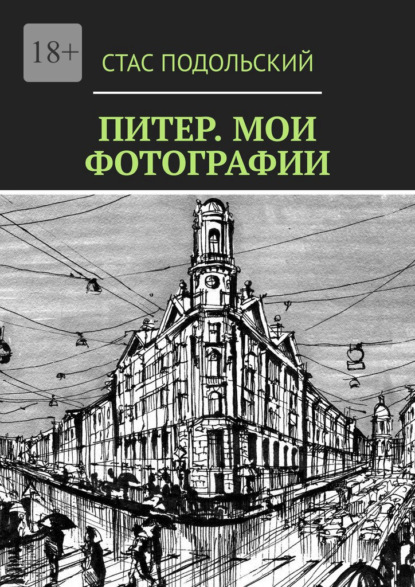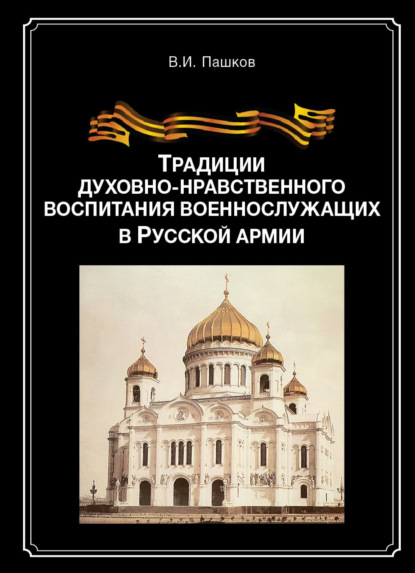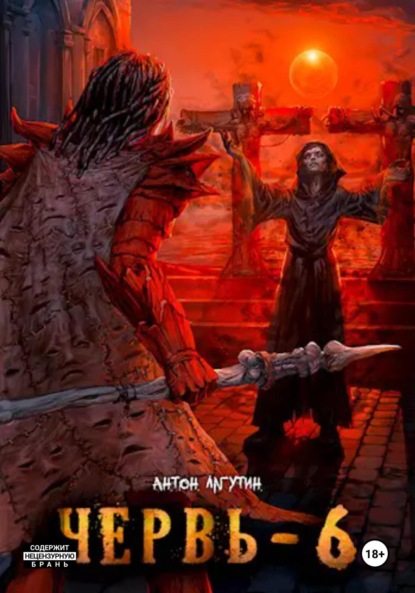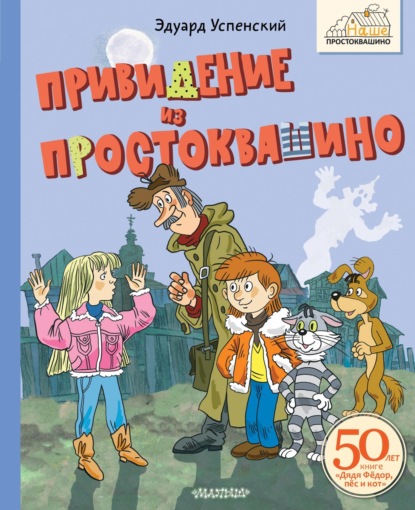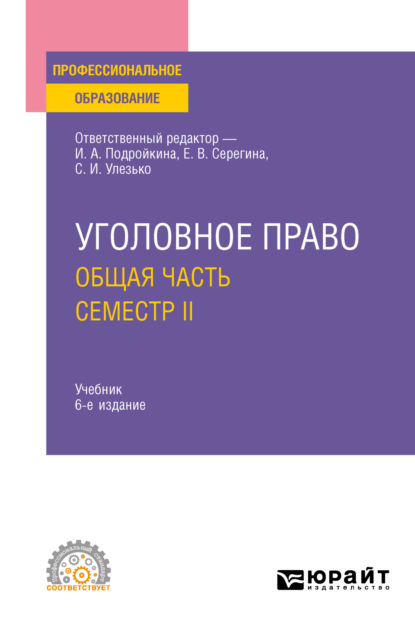- -
- 100%
- +
– Кстати, а после Петра III Екатерина замуж выходила?
– Нет. Никогда.
– А Потёмкин?
– Да, за него выходила. В этом храме венчались. Тайно на лодке приплыли ночью и обвенчались.
– Так вы же говорите: больше не выходила.
– Да, не выходила. Что здесь венчались – это официальной историей не признано.
– Значит, официально не выходила?
– Выходила, конечно, именно в этом храме, все об этом знают. Но это не точно. Хотя свидетельств предостаточно.
– Хорошо, что можете точно сказать про эту церковь?
– Здесь деда Ленина по материнской линии крестили.
– Ну и что такого? Бывает. Тут, наверное, многих крестили. А как его звали?
– Бланк Сруль Мойшевич.
– Православный??
– А какой же! Это же православный собор! Сампсониевский!!!
Да… Не зря у центрального входа в часовню под короной Российской империи красуется масонское Всевидящее око!
Чего только в этом храме не бывает – один он такой!

На площади Островского, (хотя при чём тут Островский?), словом, на площади, где памятник Екатерине II, по углам стоят фонари. Раньше они Дворцовый мост украшали, потом их сюда перенесли. Большие такие, красивые. До плафона не допрыгнуть – высоко очень. Здесь впервые кем-то и была произнесена фраза, пошедшая в народ: «А мне это до фонаря» – мол, равнодушен я к этому, всё равно не дотянуться. С тех пор в России таких высоких фонарей много миллионов понаставили и всем всё стало….

В революционном 1917-м здание суда было основательно перевёрнуто. Новые хозяева новой страны, видимо, заметая следы своей прошлой жизни, уничтожали все архивы с делами, которые были рассмотрены, или рассматривались в данный момент. Такое же кострище можно было наблюдать только вблизи полицейских участков, где дел на будущих строителей коммунизма полыхало не меньше.
Так и стояло после революции здание суда в самом начале Литейного проспекта, заброшенное и забытое. А новая Россия, тем временем, стремительно развивалась и укреплялась. Аж зависть брала. Особенно она брала идейных врагов, как внутри нашей страны, так и снаружи. Вот, чтобы с этими недружественными элементами бороться, большевики и создали ВЧК, которая вместе с СССРом, мужала, росла и крепла. Однажды она так выросла и так окрепла, что ей уже не хватало трёх букв в названии, тогда придумали четыре (НКВД стало называться). Пропорционально врагам молодой республики увеличивалось и число борцов с ними. Да так увеличилось, что потребовалась новое большое здание. Тут, как раз, земля под сожжённым зданием суда и приглянулась. Одни плюсы: и центр, и тюрьма рядом, и можно окончательно старый особняк снести. А то он стоит – нервирует, неприятные воспоминания будит. Причём не только у горожан, но и у некоторых сотрудников четырёх букв. Вознеслось новое здание на восемь этажей вверх. Самым большим домом его стали называть. Потому, что мол из него Колыму видать – шутили юмористы от народа. Много легенд про этот небоскрёб рассказывают: и то, что он 8 этажей вниз имеет; и вообще не 8, а 9 – мол, на самом нижнем всех строителей и замуровали, которые это здание строили, чтоб его тайны не рассказали; и то, что в войну ни один снаряд в него не попал, потому что все верхние этажи заселили пленными генералами Вермахта и асами Люфтваффе – немцы бомбить не решались; и что тюрьма там страшная в подвале, где пытают преступников нещадно. Но бойцы без страха и упрёка не обращали внимание на все эти пересуды, били успешно притаившегося врага, аж деревья в Сибири валились. Сильно били, умело! И сейчас бьют.

– Как, вы не видите на том берегу здание 12 Коллегий?
– Нет. Не вижу. Оно, наверное, какое-то маленькое.
– Ну что вы! Оно самое большое на острове, в длину около четырёхсот метров, просто к набережной торцом стоит.
– А почему все здания фасадом, а оно торцом?
– Так если бы его фасадом поставили, то пол набережной заняли.
– А что ж тогда остальные дома торцом не поставили – ещё бы больше построек влезло?
– Так, всё, идите Вы в… Кунсткамеру, она там рядом. И фасадом к Неве стоит.
– Спасибо за совет. Я пошёл. До свидания.
– До свидания (А действительно, чего это оно торцом стоит?)

В самом начале ХХ века телевизионных новостей ещё не было, а значит и не было в конце программы прогноза погоды. А как узнавать, какие подарки тебе приготовил непостоянный Петербург? Дождь, снег, солнце, мороз – что завтра, в шубу заворачиваться или ехать в Сестрорецк загорать и купаться? Питер – щедр на сюрпризы.
Вот, для таких сильно интересующихся, на Малой Конюшенной специальный метеорологический павильон поставили. Там и температура воздуха, и давление, и влажность, и графики погоды, и её прогноз на завтра. В общем, очень полезная будка, а главное – бесплатная. Подходи и фиксируй, что тебе интересно.
Плохо другое: и сегодня не всегда удачно прогнозисты предсказывают погоду, что уж говорить про век тому назад. Поэтому случались конфузы – врал павильон.
Рассказывают, однажды, возмущённый подлой ложью метеорологической будки, гражданин обратился с претензией к служителю, который как раз пришёл этот павильон обслуживать: что, мол, ваша будка меня обманула с осадками, я весь промок из-за этого до невозможности. На что получил абсолютно профессиональный ответ:
– За малую копейку большие истины не раскрываются!
(Используйте эту формулу, пригодится в жизни – дарю).
А этот бесплатный павильон и сейчас стоит, можно подойти посмотреть. Только истины он уже давно не раскрывает – нет, наверное, у города большой копейки на его правду.

Как сейчас здорово: приехал зимой в театр, машину бросил на стоянке и пошёл культурно обогащаться. Вышел со спектакля, завёл машину – три минуты и ты в тепле едешь домой. Теперь представьте морозный Петербург XIX века: прибыл на карете, зашёл в здание театра, а кучер остался на улице ждать хозяина. И сидит он в своей повозке пока барин не выйдет. Представления в ту эпоху могли быть и час, и два, а, иногда, и полдня. Разные бывали форматы, нередко спектакли давали подряд один за другим: драма, потом сразу опера, за ней комедия. Извозчики всё это время тряслись от холода на улице, а там минус двадцать, например. Представили? Так, вот: рядом с Александринским театром притаился неприметный такой переулочек, в честь Крылова названный. Баснописец тут жил в одном из домов. И на этом переулке раньше большим успехом пользовался ресторан «Феникс», в котором раздухарённая после спектакля публика собиралась свежими эмоциями поделиться. А пока служащие точки общепита и кучера ждали хозяев жизни, – им, подмёрзшим водителям кобылы, персонал кабака с заднего входа наливал пивко. И чтобы зафиксировать согревающий эффект доливали в него изрядно водочки. Говорят, этот коктейль a-la izvozchik очень качественно боролся с холодом.
Будете проходить мимо переулка Крылова, дом 5, поклонитесь месту, где таким образом возник классический российский напиток, известный в Миру, как ЁРШ.

Сложная раньше жизнь у дворян была. Нервная. А чтоб пар выпустить – вариантов немного. Водочки с друзьями выпить, да и проехаться по весёлым дамам – вот и все удовольствия. У жён дворянских развлечений ещё меньше. Всё больше по домам сидели, прихорашивались, да к балам готовились. А если вдруг вздумает супруга налево взглянуть – развод и позор на весь Петербург. Поэтому, если и взглядывала, то под покровом строжайшей тайны. Так и жили представители высшего общества в балах, пьянках, загулах, но под покровом…
Исключение составляла только одна семья – Нарышкиных, их дворец стоит на Фонтанке, дом 21.
У этих как-то всё наоборот было: Мария Антоновна гуляла вовсю, детей чужих рожала, а её супруг Дмитрий Львович делал вид, что ничего не происходит, был весел, улыбчив и невероятно успешен по службе. И что самое неприятное, весь Петербург об этом знал, но никто не возмущался. А всё потому, что госпожа Нарышкина нарушала нормы общественной морали ни с кем-нибудь, а с самим императором Александром I. Жила с ним практически открыто и детей рожала одного за другим. Царь и наградами супруга осыпал, и деньгами, и назначил его обер-егермейстером двора – главным по охоте на рогатых (весь Питер смеялся). Словом, всех всё устраивало. А что за глаза Нарышкина называли «магистром ордена рогоносцев», так это Дмитрия Львовича нисколько не огорчало. Он вообще добрый был человек, весёлый, острый на язык, душа любой компании. Ещё он очень гордился своим домашним оркестром, состоящим из одних… роговых инструментов.
Рассказывают, однажды на балу, царь спросил у него:
– Как чувствуют себя Ваши дети?
– Вы спрашиваете про моих детей или про Ваших? – тут же нашёлся Нарышкин.
Весёлое раньше время было.
Вы кого из этих троих больше всего осуждаете? Зря. Все трое были очень довольны своей жизнью.
Сегодня во дворце Нарышкиных собрание оставшихся в России яиц Фаберже. Ну, а где их ещё выставлять?

Русский музей. Младшему брату Мише дворец построил Александр I. Музей в нём открыл Николай II в честь папы своего, Александра III (внучатого племянника Михаила). Чем нам известен Михаил? Да практически ничем. Так, военный был, остряк, служака. А дворец называется – Михайловский. Вот, что значит родиться в нужной семье.

На Выборгской стороне в Императорской медико-хирургической академии, на улице Академика Лебедева, дом 6, диплом врача впервые в истории дореволюционной России получила женщина. До этого считалось, что представитель слабого пола ну никак не может быть врачом. Очень сильное было мужское лобби против того, чтобы женщина встала с ними (светилами) в один ряд. После долгих препирательств договорились, что девушек брать будут, обучать будут, диплом давать будут, НО!
Но в дипломе в графе «Присвоенная специальность» вместо слова «врач» будут писать «женщина – врач». Понимайте, как хотите.

Некоторые ругают большевиков, а я хочу заступиться.
При Анне Иоановне (по происхождению – Ивановне, папу Ваней звали) обратилась к ней лютеранская община, что воды им обычной не хватает, просили содействие оказать. Императрица в помощи особо рвения не проявляла. Видно, другими вопросами была занята, там биронами разными, охотами, казнями.
А большевики, спустя почти 200 лет, этой же общине, в главном храме лютеран – Петрикирхе (что на Невском), построили огромный бассейн. Прямо во всём здании. Сделали из старой церквушки новый спортивно-физкультурный центр с обилием воды. И тёплой, и холодной. Стали проводить соревнования по плавательным видам спорта, вместо никому не нужных церковных служб.
Вот и делайте выводы, какую власть больше благодарить надо.

В этом доме на Фонтанке, 38 у актрисы Саввиной часто собиралась артистическая тусовка. Молодые актёры ставили короткие спектакли, представления, устраивали розыгрыши, импровизировали на злободневные темы. Приглашался очень ограниченный круг лиц, в основном, свои, люди из театральной среды. Хозяйка всех гостей угощала невероятно вкусным капустным пирогом. И это со временем стало традицией. Иногда шутили, что гости приходят не на представления, а на пирог. Так и возникло понятие театральный «КАПУСТНИК».
Хорошо, что Саввина не пекла пироги с яйцами.

На углу Невского и Садовой Екатериной Второй была заложена первая в России Публичная Библиотека. Правда, при жизни императрицы её достроить не успели, и при Павле I тоже не успели, а вот при Александре I открыли. Но аккурат накануне войны с Наполеоном. Поэтому наполнить фонды до конца не смогли, да и часть книг подальше от Питера были вывезены на всякий случай. После того, как угроза миновала, всё вернули в город, ещё добавили трофейных фолиантов и библиотека распахнула свои двери. Книжные запасы собрания ежегодно пополнялись.
Библиотека росла, обретая авторитет в учёной среде. Грамотные культурные люди очень радовались этому событию, многие известные личности от Крылова до Пушкина стали её постоянными посетителями. А те горожане, кто не очень знаком с грамотой, грустно вздыхали: «Срам – то какой – мало этим господам публичных домов, так они ещё целую публичную библиотеку удумали!».

Первый хоккейный матч в городе, выставка, театральные представления, парад, соревнования по конькобежному спорту, фестиваль, кладбище, ярмарка, смотр войск – это неполный перечень мероприятий, происходивших в Петербурге на одном клочке земли в разные времена и эпохи. А ещё рассказывают, что здесь в кустах сирени живёт нечистая сила – неугодных пугает сильно. Есть много недовольных свидетелей. Говорят, молодожёнам сюда полезно приходить – нерадивому супругу тут наказание иногда прилетает. Но всё это страшилки для верующих, может, эти россказни и неправда.
А вот, кого точно здесь можно встретить (сам не раз проверял), так это двух чудесных собачек моей знакомой Елены. Она каждое утро и вечер сюда приходит, чтобы туалет им справить – благо кустов и травки много нынче растёт. Ещё, кстати, одно предназначение этого места.
Вот такое оно многоликое – Марсово поле.

– Там, с момента основания Петербурга была усадьба Прасковьи Ивановны, племянницы Петра I.
– Это где?
– Угадай. Чуть позже, на а этом месте Пётр Шувалов, сподвижник Екатерины II, свой дворец построил.
– На Итальянской?
– Не угадала, на Мойке.
– Всё равно, не знаю где это здание.
– Идём дальше, после смерти детей Шувалова, Екатерина выкупила имение и подарила Александре, племяннице Потёмкина.
– Я не понимаю, о каком дворце ты говоришь.
– Последняя подсказка: у Александры эту усадьбу прикупил Юсупов.
– Он пол России выкупил и что?
– Сдаёшься?
– Да.
– Мойка, 94, – дворец, где Распутина убили.
– Так бы сразу и сказал. Была там на экскурсии. Но только про Григория Ефимовича и запомнила. Его там прямо в подвале грохнули.
– А как тебе интерьеры дворца, частный театр, мрамор, картины, лестницы?
– Не помню. В памяти отложилось, как в подвале Распутина пирожными с ядом кормили.
– Понятно, в Эрмитаж на экскурсию не ходи, ничего не запомнишь – там ведь Распутина вообще не обижали.

Читаешь старые воспоминания про великое искусство Матильды Кшесинской, про пытающуюся её перетанцевать Анну Павлову, про других балерин. Читаешь про гениальных актёров прошлого, как им рукоплескал Петербург, как они заражая своим искусством зрительный зал, умели вызывать и горечь, и смех, и слёзы. Читаешь про музыкантов, заставлявших зал слушать их стоя, и понимаешь: это всё ушло навсегда, никто и никогда не оценит игру артиста, танец балерины, баритон певца и сопрано певицы. Становится ужасно обидно за служителей сцены из нашего далёкого прошлого. Не было таких технических средств, которые смогли бы сохранить для нас талант этих людей. Художник на века после себя оставляет картины, писатель – книги, композитор – музыку. Остальные же только доброе имя.
Как-то обидно за забытых становится, очень обидно!

На любой площади, согласно градостроительным нормам прошлого, должны были располагаться: церковь, рынок и госучреждение. Проверяем этот постулат на Сенной площади.
Итак. Церковь была, вопросов нет, правда её потом снесли, когда метро строили, но она была точно – ставим птицу. Рынок был, был всегда, с него площадь и началась. Сначала на этом рынке торговали… Угадайте чем? Я спрашиваю: чем раньше торговали на Сенной площади? Правильно: сеном. Ну, и конечно всем остальным набором запчастей для эксплуатации лошади, но в первую очередь – сеном. Разобрались, рынок был, его сейчас тоже снесли, но пристроили большой торговый центр. Произвели равноценную замену (наверное). Осталось разобраться с госучреждением. «Оно есть у меня» – как, наверное, говорил одессит, впервые увидевший Петербург, когда его спрашивали, какое впечатление на него произвёл город.
Так, вот, госучреждением на Сенной являлась Гауптвахта. Кто только не успел отметиться в её застенках. И Тургенев, за то что напечатал в газете заметку о смерти Гоголя, не согласовав её текст с цензурным комитетом. И Достоевский – он тоже присел, опубликовав, что-то в нарушение регламента. Кстати, Федор Михайлович остался в неописуемом восторге от гауптвахты. Как он позже писал: и выспался, и отдохнул, и с людьми хорошими познакомился.
А ещё, перед этим зданием работал дежурный палач. Не в смысле голову отрубить, а так – высечь нерадивых. Какой-нибудь крепостной провинится – барин ему выписывает на бумаге, например, десять плетей. И наказанный идёт сам (без принуждения) с этим листочком к экзекутору, вот, мол, рецепт, подлечите меня пожалуйста от строптивости. И палач при всём честнОм народе сечёт виновного. Удобная штука. Жаль сейчас такого нет. Надеюсь, ПОКА.

Вчера гулял по городу в футболке. Май, весна, светило солнышко. Сегодня ветер сносит с ног, идёт снег. Именно в таком климате веками лучше всего сохранялась душа и развивалась культура русского государства. Интересный факт, многое объясняет.

Что один самодержец может подарить другому самодержцу, чтоб одариваемому стало невероятно приятно? Персидский царь ответил для себя так: СЛОНА. И пошёл караван этих зверюшек своим ходом через полмира. Обескураженный таким подарком русский царь благодарил, конечно, но про себя думал: где это добро хранить – надо загон строить; чем кормить – и так с провизией не очень; как содержать, ухаживать – ну, тут хоть погонщики расскажут. Где в Петербурге только не устраивали слоновьи дворы. По мере роста города отодвигали их от центра всё дальше и дальше. Но персы не успокаивались – всё дарили нам слонов и дарили. Видимо про подарить золото или драгоценные камни арабам никто не подсказал – их же и хранить было бы нам намного проще, и содержать дешевле. Так или иначе, но слонопитомник рос и продолжал перемещаться по Петербургу в поисках нового пристанища. И вот, однажды дом слонов перекочевал на то место, где сейчас стоит Михайловский замок. Животных, после купания в Неве, каждый день гнали караваном через Невский проспект, потом сворачивали в проулок, который и вел к слоновнику. Так, эта маленькая улочка стала именоваться Караванной. И сейчас так называется. А в русском языке появилось новое арабское слово – «караван».

Очень – очень давно в России было много работающих заводов. А на этих заводах работали рабочие. И наличествовала у них одна нехорошая страстишка – они бухали. Кто больше, кто меньше, но выпивали все. А зачастую и всё, что можно выпить.
Одним из самых больших предприятий Санкт-Петербурга на стыке XIX – XX веков был Путиловский завод. После революции переименованный в Кировский. Тяжёлое наследие царизма внутри предприятия перекинулось к строителям коммунистического будущего – на рабочем месте пьянство продолжалось. А так как географически производственные цеха находились ещё и в сильно рабочем квартале, это бедствие вообще приняло масштаб эпидемии вокруг всей территории завода.
Таким образом, от названия ленинградского индустриального гиганта – завода имени Кирова – и пошло гулять по матушке России это страшное слово – «кирять». Кирял весь район, и мужчины, и женщины, и старики. Киряли даже подростки.
Согласно другой версии, защитники рабочих утверждают, что слово «кирять» произошло от французского коктейля «кир». Это была смесь очень дорогого белого вина и какого-то модного заграничного ликёра.
Как вы думаете, какая версия ближе нашим заводчанам?

То, что Пётр Первый тяготел к Голландии, знают все, он многое заимствовал у этой страны. Цвета флага, морские, корабельные термины, жизненный уклад, подходы к кухне, образцы одежды и т.д., и т. п. А вот то, что император решил построить мини Голландию в Петербурге знают не многие. Взяв у них основные принципы подходов к судостроению, Пётр, почти в самом устье реки Мойки возвёл комплекс зданий, впоследствии названный Новой Голландией. Здесь выстроены на голландский манер ангары для правильного хранения древесины, мастерские, складские помещения для такелажа, пруд для испытания ходовых качеств моделей кораблей и тюрьма в форме круга для нерадивых матросов. Она сразу по своей форме получила название – «бутылка». Моряки попадали в неё за различные мелкие нарушения: невыполнение приказа, пьянство, грубость, споры с начальством. С той поры, если морячок терял контроль над собой, ему товарищи по-отечески советовали: «Не лезь в бутылку!»

Любил наш император всё новое и прогрессивное. И народ он переодел по европейскому образцу; и женщин вывел из дома, посадив их за стол с мужьями; и развлечения для подданных различные напридумывал. Одним словом, растормошил Пётр I спящую в патриархальности Россию. Увлекающийся у нас был царь, всё время что-то новое придумывал. Одним из его хобби стала Кунсткамера. Он даже указ издал «О приносе родившихся уродцев, а также найденных необыкновенных вещей». Так и собралось экспонатов на целый музей. Одно огорчало царя, не слишком охотно шли горожане на уродцев любоваться, неинтересно им было почему-то. Подумал наш реформатор и изменил подход к привлечению экскурсантов – новый указ изрёк: «Надлежит охотников приучать и угощать, а не деньги с них брать». Иными словами, стали посетителей бесплатно пускать, а на входе наливать желающим вина хмельного, да цукербродами потчевать. Даже, бюджет на это специальный выделили. И сразу повалил люд голодный до музейной культуры. Умел Пётр I чаяния народные чувствовать.

На Выборгской стороне до сих пор сохранился квартал отстроенный империей Нобелей. Кто не знает, четверо их было: отец и три сына, а ещё сестра, но она в руководстве предприятиями не участвовала, больше за культмассовые мероприятия для рабочих отвечала. Нобели не только взрывчатку делали, но и двигатели, оборудование, машины, ещё одними из первых научились нефть с Кавказа оптом транспортировать. Но я не про это сейчас. Очень советую, не поленитесь, погуляйте по Нобельскому переулку, посмотрите в каких «невыносимых» условиях жили «угнетённые» ими рабочие. А потом выйдите на Лесной, оцените дом, который Нобели для своих инженеров построили и сами тоже в нём жили. Напротив этого дома, до сих пор стоит клуб для тех же «угнетённых». В нём и концерты организовывали, и кружки по интересам, и различные мероприятия для жён работников предприятия, да и про детей тоже не забывали. Кстати, практически никто из рабочих с заводов Нобелей октябрьский переворот не поддержал. Почему-то.

Если уже винные склады не нужны, во что их можно переделать? Подсказываю: толстые стены, мало окон, низкая температура.