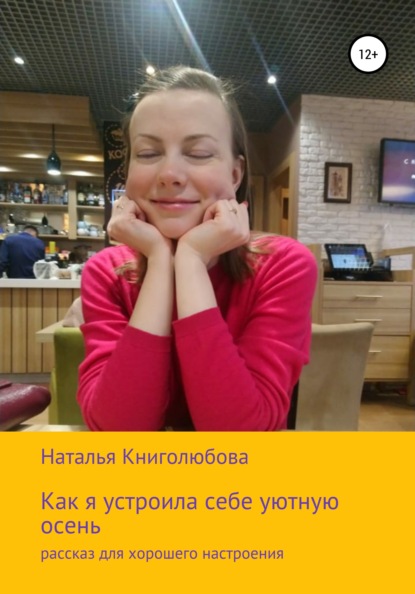- -
- 100%
- +
– Привет, – произнёс он мягко, как будто мы только что обменялись визитками. – Можно?
Я сделала шаг назад: «нет» – внутри меня было громче, чем «да».
– Прошу, выйди, – сказала я, и голос мой был ровный, но в нём проскользнула стальных нотка.
Он снова улыбнулся, демонстративно не заметив отказ:
– Не будь такой скучной, Иви. Я просто хотел пообщаться. Ты выглядишь интересной.
Признаюсь, в такие моменты старое чувство – уязвимость – всплывает как мутный пузырь. Сердце слегка подпрыгивает не от страха, а от привкуса неловкости: он делает вид, что есть не только я, но и публика, и он – артист, а я – зритель.
– Мне не нужно общение сейчас, – произнесла я и поставила перед собой линию: дверь должна была остаться закрытой.
Он сделал шаг внутрь. Я отшатнулась.
– Эй, отойди, – сказала я уже тверже. – Я попросила выйти.
Он нахмурился так, будто бы я – недостаточно интересный диалог для него.
– Ты что – не любишь внимание? – спросил он, голос слегка подшучивал. – Я просто хочу узнать тебя получше. Не принимай это так серьёзно.
Я подскочила с кровати:
– Выйди, пожалуйста, – повторила я.
Но его манера держаться была напористая, и он, не слушая, шагнул ближе и положил руку на край кровати – слишком близко, и от этого душно.
Тогда мне показалось, что мир колеблется. В груди взорвался старый автоматический отклик – не тот, что от похвалы, а тот, что от детских ловушек: «ухожу, если мне плохо». Я почувствовала, как горячее раздражение началось с цвета в глазах и распространилось по всему телу.
– Я сказала тебе выйти, – произнесла я резко, и в моём голосе не было шутки.
Он посмотрел на меня с удивлением, как будто впервые заметил, что я разговариваю с ним без улыбки.
– Расслабься, – сказал он. – Не будь такой злой. Мы все просто веселимся.
Он приблизился ещё, и теперь его рука – тёплая, с запахом пива – оказалась на моем колени, мягко, как случайный жест. Моё тело сказало «всё», и я отдёрнула ногу.
– Выйди, – повторила коротко.
Он рассмеялся и, не желая уходить, наклонился ко мне, голос его стал темным и почти сладким:
– Ну давай, не унижай меня. Будь хорошей девочкой, – и губы его почти коснулись моего уха.
В этот момент в комнате не осталось никакой игры. Было только жарко и остро и хотелось плакать и смеяться одновременно – смешение того, что старые раны превращались в реакцию. Я поставила руку на его грудь и толкнула чуть, чтобы он отошёл.
И тут дверь распахнулась. Зейн влетел так, как будто его кто-то встревожил намного сильнее, чем шум: глаза его цепкие, лицо – куплено вниманием, и он не собирался молчать ни секунды.
– Что ты делаешь? – вырвалось из него. Его голос был как молот: громкий, ударный, тот самый, что заставляет стены дрожать. – Уйди от неё, придурок.
Парень, который приставал, покраснел – сначала от гнева, потом от страха. Марко и Лука тут же ввалились в комнату, громко роясь и пытаясь догнать смысл сцены. Зейн сделал шаг вперёд и схватил того парня за плечо, отталкивая его к двери.
– Я сказал не трогай её, – прошипел Зейн, и это был голос не защиты «героя», а священного праведного гнева. – Ты слышал, что я сказал?
Парень, неудобно прихрамывая, соскользнул по полу до порога.
– Эй, чувак, я просто заигрался, – бормотал он, но в голосе слышалась уже не шуточность, а страх – потому что Зейн сейчас был не просто беззаботным парнем, с которым можно шутить, а чем-то куда более серьёзным и опасным.
Я стояла в середине комнаты, сердце колотилось, ладони были влажные. Я видела, как в глазах Зейна – искра, которую я раньше видела редко: не весёлая искра, а искра ярости. Он повернулся ко мне на секунду, и в взгляде его был вопрос – «ты в порядке?» – без слов, но всё очень ясно.
Я не могла дышать спокойно. Было смешно и ужасно одновременно: тот же человек, который утверждал, что «я не пара ему», сейчас – идущий в комнату с ревом, отстаивающий меня. Где логика? Где спокойствие? Я уже не хотела быть его актрисой. Я хотела тишины. Хотела, чтобы мир не ломал моё спокойствие неожиданными толчками.
– Всё в порядке, – выдохнула я, и слова сорвались в виде маленькой искры. Я ждала, что он упрется в меня словами, что у нас всё сложно, что он скажет «оставь меня в покое», – но он сверлил глазами своего друга, и в его движениях было больше защиты, чем я ожидала.
Марко и Лука по-быстрому свалили друг за другом в коридор, тряся ключами и смеясь – но уже не так громко, потому что в их глазах появилось уважение к границам. Парень с белой улыбкой медлил на пороге, глядя на меня как на объект эксперимента. Он швырнул испуганное «извини» и, не глядя, выскочил в коридор. Дверь захлопнулась.
В комнате опустилась тишина, такая гнущаяся, что я поймала себя на мысли: да это же звенит. Зейн стоял, дышал тяжело, плечи чуть дрожали от напряжения.
– Ты в порядке? – спросил он вдруг, уже тише, он сказал это так, будто боялся, что звук «я не в порядке» разобьёт стекло.
Я почувствовала, как внутри всё взрывается: злость, признание, стыд, облегчение – клубок, который нельзя распутать одним движением. Я встала и, не посмотрев на него, схватила куртку. В голове крутилось странное: «он защищает меня, но затем снова будет та дистанция, снова эти таблички, снова его 'я сам по себе'». Я уже не могла – не сейчас. Мне нужно было уйти, чтобы подумать, чтобы не разжечь новый конфликт.
– Я ухожу, – сказала я ровно.
Он сделал шаг, как будто хотел остановить меня.
– Не уходи, – произнёс он резко и сразу добавил мягче: – оставайся.
Я посмотрела на него, и в его глазах было столько всего, что я не могла переварить.
– Нет, – выдохнула я. – Мне нужно побыть одной. – и это была правда: не потому что я злиться, а потому что в голове звучал шум бури, и мне нужно было посчитать свои предметы, успокоить мотор, вернуть дыхание в норму.
Я вышла в коридор и закрыл дверь за собой, чувствуя, как вечерний воздух обхватил меня холодной ладонью. Я шла по улице без маршрута; свет фонарей вытягивал тени, и шаги мои глухо стучали по мостовой. Я не знала, куда идти: на пляж? В бар? В квартиру друга? Мне нужно было просто удалиться от звука его голоса, от чужого прикосновения, от его защиты, потому что всё это было слишком. Слишком быстро, слишком много, слишком правдиво.
Я шла, думала о том, как странно иногда жизнь складывается: утром – правила на бумаге, вечером – реальность, которая рвёт бумагу в клочья. Мне хотелось написать в блокнот: «Правило №8 – уходи, когда нужно, даже если это обидно». Но я не стала. Вместо этого я глубоко вдохнула и пошла вдоль улицы, где свет фонарей делил мир на участки, и в каждом участке – своя история. Моя – сейчас просто шаги в ночи.
***
Я шла часа два. Два часа, пока город вокруг смыкал веки и становился мягче, пока уличные фонари вытягивали тени длиннее, чем днем, и пока в голове вертелась одна простая мысль: «Я просто хочу остаться в порядке». Но люди не складываются под желания – они складываются под шаги, запахи и незаконченные разговоры.
Ночью Санта-Моника пахла иначе: не только солью и морем, но и тепло-сладким ароматом уличных кафе, где кто-то еще более-всему-рад; потом – сырой пыльцой от парков и тонкой горечью воздуха у перекрестков. Я шла вдоль линии витрин, смотрела на зеркальные окна и думала о том, как редко в жизни получаешь возможность просто уйти – не от людей, а от мыслей, которые тебя едят. Двое часов было достаточно, чтобы не думать о том, как он защищал меня всего два часа назад и как его голос взрывался в комнате. Двое часов, чтобы понять: я могу уходить, но расстояние не решает вопроса, оно только откладывает ответ.
Когда я вернулась, дом спал так, будто никогда не просыпался. Коридор был пуст, лифт застыл на моем этаже, и в сумке от остатков ночи еще держался запах корицы. Квартира встретила меня приглушённым светом – кто-то выключил всё лишнее, оставив тёплый круг над диваном, где кто-то, видимо, сидел и думал. Я остановилась на пороге и вслушалась: в тишине слышалось только как часы на кухне делали неторопливый тик, да мое собственное дыхание – ровное и приглушенное.
Он сидел на диване, голова опущена, руки сложены в замок так, что в пальцах выступали сухие жилки. Казалось, что он пытается сжать в себе целую бурю. В ту самую секунду он заметил меня: резко вскинул голову, как будто не ожидал, что дверь откроется именно сейчас. Его лицо – тот самый контраст, который я уже успела запомнить: каменная маска «мне всё равно», и сквозь неё пробивается что-то тонкое и тревожное – будто тонкая трещина в глыбе.
– Ты вернулась, – сказал он так, будто произнёс прописную истину. Но голос дрогнул на конце, и это было сильнее любой откровенности.
Я сняла куртку, поставила сумку на пол и прошла к столу, как будто это самый естественный маршрут, а не попытка держать дистанцию.
– Да, – ответила я спокойно. – Ходила пешком. Думала.
Он резко вскинулся и встал, и в этот жест было две силы: первая – та, что хочет выглядеть холодной и отстраненной; вторая – та, что рвётся наружу: «где ты была, почему одна, что с тобой было». Его голова покачнулась, и в глазах мелькнуло то, что я называю «ребенок-в-темноте» – неуверенность, смесь вины и страха.
– Ты не должна была идти одна, – сказал он, коротко и резко. Его слова – как камень, брошенный в окно тишины. – Нельзя так. Ты могла…
Он не закончил фразу. Мне стало странно от того, как быстро из каменного лица вываливается забота, как будто скрытая за маской рудная жилка вдруг проглянула наружу. Я понимаю, что многие люди умеют маскировать страх под грубую шутку, но он – мастер этого: сначала шутит, потом кричит, потом снова притворяется, что ничего не было. И я, наивная, каждый раз думаю, что сейчас он остановится – и вдруг вижу, что он – человек, который и хочет, и боится одновременно.
Я подошла ближе. В комнате было темнее на одной стороне, и это как будто подчёркивало его силуэт. Потом я заметила – синяк. Маленький лилово-жёлтый круг на скуле, и царапины на правой руке, на костяшках пальцев – «разбитые котяшки», как будто он бился кулаками об стену или об что-то ещё. Все эти детские слова – «котяшки» – звучали сейчас по-новому: грубый след, который не вписывается в ту картинку «забавного вечера с друзьями».
– Ты в порядке? – спросила я, но не из робости. Слова рвались наружу сами; я не хотела паниковать, мне хотелось понять. Мне всегда было легче с фактами, чем с эмоциями, которые маскируются словами.
Он откашлялся, нервно зажмурил глаза и сделал шаг назад.
– Это ничего, – отрезал он. – Небольшая неприятность. Бар, неудачный парень… всё как обычно.
– Бар, – повторила я медленно, и в голове логика включила маленький механизм: «Бар – как часто?». – Ты часто возвращаешься с такими… метками?
Он оперся о спинку дивана и посмотрел прямо на меня. В его взгляде было что-то ясное и холодное – он подбирал слова.
– Я тебе говорил, что у меня иногда бывают… напряженные вечера, – сказал он. – Ничего серьёзного. Я справлюсь.
Я слышала в его «я справлюсь» не уверенность, а вызов самому себе – «я не сломаюсь, я – это не я». Мне захотелось ударить его по плечу от злости и одновременно обнять, чтобы ничего не осталось. Этот контраст всегда действует на меня как плохая анестезия: боль притупляется, но остаётся под кожей.
– Твои друзья… – начала я осторожно. – Тот парень, который вошёл ко мне в комнату… он вел себя как козёл.
Его лицо моментально сжалось, и он не сразу ответил.
– Я знаю, – сказал он тихо. – Я сказал им уходить изначально. Я… извини меня за это.
– Ты сказал им – но они все равно зашли, – упрекнула я его. – Ты не остановил их.
Он резко вжал голову в плечи, и в движении было видимо сожаление.
– Я не заметил вовремя. Я думал, что они просто будут веселиться, и это пройдёт. Мне нечего оправдывать. Но я должен был вмешаться раньше.
– Почему? – спросила я. – Почему они так себя ведут? Это на постоянной основе?
Он выдохнул и сел обратно на диван, словно устал от борьбы – не снаружи, с собой.
– Потому что я… иногда не успеваю остановить себя, – сказал он, и на этот раз голос был не лицемерный, а честный. – Я отпускаю ситуацию, и она идёт дальше, чем я рассчитывал. Я знаю, что это звучит как слабость. Но мне обидно. Обидно, что я привел людей, которые переступают черту. Обидно, что я тебя подвёл.
Его слова были просты и рубленые, как каменная плита. Я смотрела на него и вспоминала все те моменты, когда он казался мне одновременно и грозой, и ребёнком. Бывало ли ранее, чтобы он сам испытывал угрызения совести и показывал их не словами «извини» в тоне «не вините меня», а вот так – настоящими, грубыми, без прикрас? Редко. И сейчас это как будто поднимает завесу: под этим плотным слоем «весёлого парня» – есть человек, который может жечь себя так, что вокруг остаются синяки.
– Ты знаешь, – сказала я, медленно. – Я не хочу судить. Но я не хочу, чтобы ты думал, что это нормально. Мы живём вместе. Если твои друзья нарушают мои границы – это и твоя проблема тоже.
Он посмотрел на меня, в его глазах смешалось удивление и почти детская благодарность.
– Я знаю, – ответил он. – Я виноват. Я… Я просто хочу, чтобы всё было правильно.
Я сделала вдох. Ночь была такой, что каждое слово резало по живому.
– Ты хочешь, чтобы всё было правильно, – повторила я, – но иногда «правильно» требует действий. Слова – они не лечат следы.
Он опустил взгляд на свою правую руку, где были отметины.
– Я знаю, – прошептал он. – Это не от стен и не от мебели. – он смял кулак в руке, словно сжимая в себе то, что нельзя показать. – Я не хочу, чтобы ты думала, что я ищу силу в кулаках. Но я… не знаю как иначе. Иногда это единственное, что заставляет меня чувствовать, что я ещё кто-то.
Это признание прозвучало так, будто вытащили из него кусок огня. Я почувствовала, как моё сердце – упрямое, но мягкое – ответило. На поверхности я выглядела сурово, но внутри у меня зашевелилось сочувствие: человек, который запутался в способах быть собой, и не умеет сказать себе «хватит». Это было не оправдание, но объяснение – первая искра к тому, что можно лечить.
– Ты можешь найти другие способы, Зейн, – сказала я тихо. – Я не хочу, чтобы ты ломал себя. Я не хочу видеть, как ты приходишь домой в таком виде. Это пугает меня. И я не хочу, чтобы твоё «я» было в ранах.
Он поднял голову и на мгновение посмотрел прямо мне в глаза.
– Боюсь, – сказал он, – что если я перестану, то останусь пустым. Что вся та уверенность, которую я выдаю, развалится. Ты можешь не понять, но оно так. Я – тот, кто делает выбор.
Я села рядом на край дивана. Мои пальцы сами потянулись к его руке и коснулись разбитой кожи осторожно, почти по бабушкиному жесту. Он напрягся, ожидая упрека, но не отдернул руку. Я не стала смотреть на синяк на скулах – это мне не нравилось – но взглянула на него и сказала:
– Можно я помогу?
Он моргнул, и в этом моргании было столько всего: стойкость, удивление, и, наконец, согласие.
– Может быть, – пробормотал он, – может быть, мне просто нужно, чтобы кто-то просто был рядом. Не чтобы лечил, не чтобы решал, а чтобы просто не давал уйти.
Мы сидели так, в молчании, где было место и для его боли, и для моего раздражения, и для чего-то нового – того самого «может быть». Я чувствовала как внутри у меня расплавляется лед: не всё его поведение мне нравилось, но стоять в стороне и закрывать глаза было тоже неправильно. Иногда близость – это не про то, чтобы взять щит и отбиваться, а про то, чтобы позволить тому, кто рядом, быть несовершенным.
– Я не прошу тебя прощения за то, что ушла, – сказала я наконец. – Я ушла потому, что мне нужно было понять, хочу ли я оставаться в доме, где вечеринка может перерасти в притеснение. Но я вернулась, потому что у меня есть выбор.
Он тяжело вздохнул и улыбнулся – не громко, тихо, словно это было смущенно.
– Спасибо, – сказал он. – Я понимаю, что мне нужно быть внимательнее. Я не хочу, чтобы ты ходила по ночам одна. И если ты когда-нибудь снова уйдешь – скажи мне. Просто скажи.
Я посмотрела на него и у меня было такое ощущение, что он сказал это не командой, а просьбой.
– Хорошо, – ответила я. – И ты скажи мне, если собираешься на «вечеринку» с риском. Я не буду тебя судить, но я хочу быть в курсе.
Он кивнул, и между нами на секунду возникла тонкая, хрупкая сдать: знание о том, что мы, возможно, готовы договариваться. Я встала, взяла свою куртку, но не стала уходить. Вместо этого медленно подошла к нему, положила руку на его плечо и сказала:
– Ты не один, Зейн. Просто не делай себе больно.
Он закрыл глаза и в кулаке зажались пальцы. Мне показалось, что он сдержал сто слов, которые хотел сказать, и мне было от этого и тяжело, и радостно одновременно. Мы были далеко от готовности стать «мы», но уже ближе, чем раньше.
Я уснула не сразу той ночью . Левая рука теплилась от прикосновения, а в голове вертелся новый пункт, который я записала в блокнот, пока он мирно дышал:
«Правило №8 – не оставаться в стороне, если кто-то рядом ранен».
Это было не про контроль, а про ответственность – и в этой простоте было слишком много смысла.
Ночь прошла, и за окном город начал тихо собираться в новый день. Я не знала, сколько у нас получится, но знала одно: кто-то должен был начать лечить следы – и это начало, каким бы неуклюжим оно ни было, уже происходило.
Глава 5 – "Лёд возвращается"
Воскресенье началось не так, как я себе представляла вчера ночью, когда мы сидели на диване и, казалось, осторожно раскладывали друг другу части каких-то хрупких договорённостей. Тогда было тепло: не ровное, не ровновесное счастье, а скорее мягкая угроза – вот он, шанс, проступающий сквозь трещины. Я засыпала с ощущением, что что-то сдвинулось. Даже почувствовала, что правила можно слегка подправить: не умирая от гордости, немного уступить.
Утро пахло кофе и свежеиспечёнными тостами. Я проснулась раньше, потому что спать после событий – это роскошь сомнений; лучше делать что-то руками. Поставила воду на плиту, нашла пакет с хлопьями и решила, что сделаю что-то «взрослое»: омлет с зеленью и тост с авокадо. Маленький вкус стабильности. Когда режешь лук и чувствуешь, как он дарит тебе слёзы – это прозрачно, честно; не тот трюк, который люди используют для драматических признаний, а настоящий порез, горячая сковорода, запах масла. Это земное, и мне это нравилось.
Я представляла, как он, может быть, встанет и тихо выйдет на кухню с чашкой в руках; как мы обменяемся парой слов про планы на день; как воздух будет терпим к глупым разговорчикам. Я ловила в себе картинку – и улыбнулась, потому что радость от простых вещей всегда казалась мне более настоящей, чем старая драма. Я приготовила тост ровно так, как мне нравится: поджаренный, но не сожжённый, авокадо размято вилкой с лимоном, на тарелке всё выглядело ухоженно.
Кухня была тёплая, окна полупрозрачны от лёгкого тумана с улицы, и потому свет казался мягким. Я поставила тарелку на стол и, не постыдившись, оставила половину на потом – честно говоря, с утра мне нравилось не спешить.
Но он не появился. Сначала я подумала, что может уснул, что ему было плохо, что он просто не в духе, но я настроилась верно – ведь вчера мы говорили, и это должно было как минимум смягчить наши границы. Я сидела, ела медленно, пыталась не думать об этом, но мысль – как червячок – вертелась в голове: «Он холодеет? Или я слишком надеялась?»
Через час я услышала шаги. Они были быстрые, чёткие – не сонные, не смазанные. Я ожидала, что Зейн зайдёт с улыбкой, с той неловкой, почти детской: «Что ты сделала из злака?» Но тот образ не появился. Вместо него в дверной проем вошёл человек, похожий на Зейна по силуэту, но без той ночной мягкости. Кофта была надета аккуратно, волосы уложены, взгляд холоден – как будто он натянул на себя броню, которую снимал вчера вечером.
– Доброе утро, – сказал он, и в голосе не было ни тени тёплого оттенка. Слова были ровные и дистанцированные, будто он произносит свод инструкций.
Я смотрела на него, и внутри меня было странное, едкое ощущение: вчера утром было окно, а сегодня – стена. Я хотела подойти, налить ему кофе, спросить – но то, что в моей голове было «подойти», сжалось в узкую полоску сомнений.
– Ты в порядке? – спросила я осторожно. В этом вопросе было больше надежды, чем уличной надёжности: ну хотя бы одно слово, малейшее движение, намёк.
Он помолчал, и в молчании было что-то якобы звучное, как будто он выбирает, стоит ли выкинуть на свет правду или оставить её при себе.
– Всё нормально, – ответил он. И его «нормально» было таким сухим, как трещина в асфальте. – Я занимался делами.
Я попыталась не принять этот ответ в штыки: у каждого бывают «дела», у каждого бывают «друзья», «тусовки», «работа». Я убрала посуду, дала ему пространство для того, чтобы он мог говорить первым, а потом, если захочет, подойти. Но он не подошёл: покинул кухню и ушёл в свою комнату, оставив дверь полузакрытой. Его шаги были быстрыми, ровными – будто он приучил себя держать дистанцию.
Чем дольше он держал молчание, тем громче в моей голове становился скрип мыслей. После той ночи я ожидала хотя бы попытки: «как ты?», «спокойная ночь?», маленького отчёта о состоянии. А его уход словно говорил: «Всё, разговор окончен». И меня рассердило – не только потому, что я надеялась, а потому, что вчера мы приняли решение пытаться, а сегодня его действия показывали обратное.
Я вытирала тарелку чуть грубее, чем нужно, и чувствовала, как в пальцах появляется раздражение. Несправедливо? Может. Но человек, который защищал тебя, а потом снова строит баррикады – это раздражает. Я села за стол, открыла блокнот и посмотрела на правила.
Правило №5 – «Договариваться, даже если это больно».
Правило №6 – «Просить, не ждать».
Правило №7 – «Замечать следы».
Я подчёркивала каждое красной ручкой. Вчера я выбрала договариваться, но сегодня я уже могла почувствовать, как это договаривание под угрозой.
Часы на стене тянулися томно; день был солнечный, мир за окном – ленивый воскресный, студенты шли по улицам, кто-то с собакой, кто-то с утренним кофе. Но внутри было странное ощущение: дом – это арена, и в ней – мы оба по очереди пытаемся занять контроль.
***
Я провела день в комнате. Не потому что хотела спрятаться (что тоже было бы правдой), а потому что мне было нужно перевести дыхание исходя из того, что могло быть началом новой битвы. Комната стала моим островом: ноутбук, блокнот, чашка с остывшим чаем. Я включила музыку тихо – такую, что помогает сосредоточиться – и попыталась написать.
Но слова не шли: их рвало, как на старой пленке. Я читала старые заметки, перечитывала первую главу, где я пыталась нарисовать героиню сильной. Сильная – это когда не срываешься на крик, когда выбираешь разговор. Но что делать, если собеседник исчезает?
Время тянулось медленно. Я поочередно убирала стопки бумаг, стирала пыль, пересобирала сумку. Это было отвлекающее занятие: руки делали движение, а голова – думала. Думала о том, как легко разрушать договорённости, как легко закрывать двери. Я вспоминала его синяк, его разбитые «котяшки», и вдруг понимала, что мои «нравится/не нравится» – это мелочи по сравнению с тем, что может с ним происходить на улицах ночи.
Ближе к обеду внутри квартиры всё ещё было тихо. Иногда до меня доносились басы музыки, смех, голос его друзей – то, что я уже научилась называть «вечерними ритмами». Я попыталась не реагировать, но потом – хаотически, внезапно – раздался слабый стук по двери моей комнаты. Тот стук, который я так тщательно заранее «зарыла» – сама утвердила, что не буду открывать, если не хочу. Сердце замерло нелепо: кто-то постучал, тихо, но настойчиво.
Я не отвечала. Сначала услышала тихое шуршание, затем более точный голос – Зейн.
– Иви, – голос был приглушён. – Давай поговорим.
Его голос – он был нейтральным как будто, не требовал ответа, он скорее заявлял намерение. Я не открыла. Я была готова к слову «давай», но не к тому, что оно будет содержать в себе либо «обвинение», либо «отвлечённость». Молча сидеть и не отвечать – это было моё решение: иногда молчание объясняет всё лучше, чем слова.
Он постоял у двери, и я услышала, как он вздохнул. Через пару минут – снова стук, на этот раз более жёсткий.
– Пожалуйста, Иви. – теперь голос его звучал уже более настойчиво. – Я не хочу, чтобы между нами было молчание.
Я чувствовала, как внутри меня зарождается сопротивление: «Он не может требовать, чтобы я простила отсутствием реакции. Он сам не сделал нужного шага». Я молчала. Молчание – это защитная реакция, как шрам, который закрывает рану, но внутри остаётся пустота.