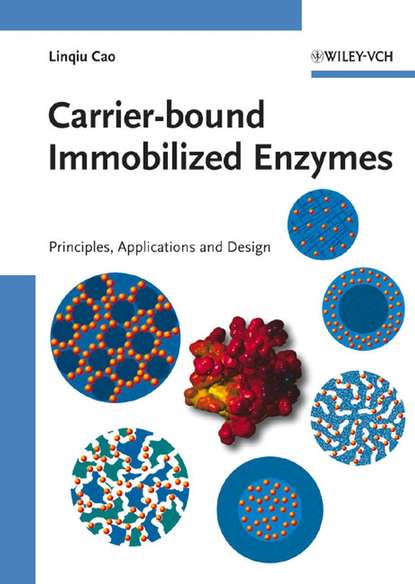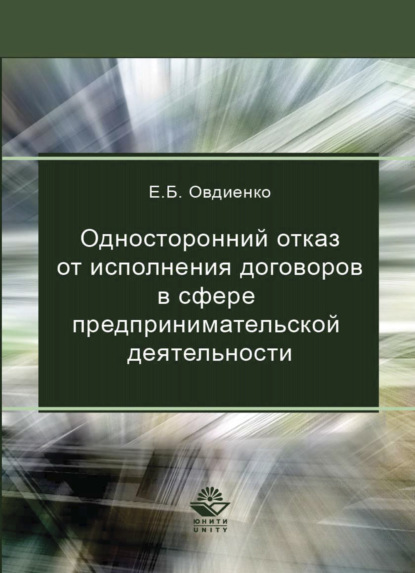- -
- 100%
- +
Прошло ещё несколько минут. Я слышала, как он подходил ближе к двери, как его дыхание становилось ровнее и тяжелее. В один момент он сказал через дверь ровно:
– Ладно. Ну и к чёрту тогда всё.
Слова эти прозвучали как сброшенный камень. Они не были криком, не были гневом; они были похожи на сдачу. В его голосе не было борьбы – только уставшее «я не буду больше бороться». Это было страшно: услышать, как человек, который вчера казался готовым договариваться, сейчас просто сдался. Я ощутила странную пустоту и одновременно – острую, свинцовую боль в груди. Договариваться – значит пытаться; а он, похоже, решил, что попытки не стоят свеч.
Я не открыла дверь и, может быть, в этот момент – может быть – он и ушёл. Я не видела, как он провернул замки, услышала только шаги, потом звук двери. В квартире снова стало тихо. Но это «тихо» было иным: не привычка, не уют, а пустота, которую невозможно заполнить ни музыкой, ни книгами.
Я легла на кровать, закрыла глаза и чувствовала каждую клетку своего тела как маленький шрам, который только начинает звонить.
***
День тянулся в бесконечно. Я провела его в комнате: писала в блокнот, перечитывала наши правила, вычёркивала, добавляла. Каждое правило теперь казалось не просто надписью, а отголоском: «Договариваться» – как напоминание, «Просить, не ждать» – как крик из глубины. Я перечитывала то, что записывала вчера ночью: «Правило №8 – не оставаться в стороне, если кто-то рядом ранен». Я обнаружила, что сама не умею применять эти правила, когда эмоции чересчур свежи.
В один момент я поднялась, пошла в кухню, сделала себе чай и, не удержавшись, посмотрела на телефон: сообщений от него не было. Ни «всё хорошо?» ни «извини, я нечаянно». Ничего. Только пустой экран. Уже после тех слов у двери – «ну и к чёрту тогда всё» – мне казалось, что он ушёл не только физически, но и эмоционально. Мне стало так одиноко, что я вдруг поняла: я не боюсь потерять его как человека, я боюсь, что мы потеряем ту возможность, которую пытались создать вчера.
Я подошла к окну, посмотрела на улицу: редкие прохожие, фонари, отражения витрин. Мир продолжал жить, и в этом была ирония – всё зовёт тебя двигаться дальше, есть люди, которые идут по своим делам и не знают, как внутри тебя сейчас всё расползается. Я понимала, что сейчас важнее не то, что он сказал «к чёрту», а что я отреагирую. Сказать «не уходи»? Позвонить ему? Или дать человеку пространство, который сказал, что сдаётся?
Я делала всё, чтобы не прыгнуть в этом конфликте с эмоциями. Холодный ум говорил: «Дай ему время. Он устал, это его реакция. Он придёт позже, и тогда вы поговорите». Тёплая часть меня хотела подняться, ринуться вниз и искать, чтобы сказать: «Не сдавайся». А юная часть – та, что помнит чулан и страх темноты – боялась внезапных бурь и хотела перестраховаться. Все эти слои внутри меня боролись, и я не знала, кому отдать приоритет.
После полудня я попыталась уснуть, но тревога делала своё дело: мысли скакали, как обезумевшие птицы. Я представляла сценарии: в одном он возвращается и говорит, что всё в порядке; в другом – что он искал «покой» в пузыре с друзьями и возвращается, более напуганный, чем раньше; в третьем – что он уйдёт из квартиры на несколько дней и это будет конец истории. Каждый вариант был болезненным по-своему.
Время шло медленно. Вечер подступил, и я поняла, что день прожит на грани ожидания. Я набрала номер Наи, потому что она всегда умела подставить плечо и вернуть мой мир в плоскость, где разговоры были мягче. Она ответила через пару гудков, её голос был солнечным, но я выплеснула на неё больше сарказма, чем хотелось.
– Всё нормально? – спросила она, и в её голосе читалось: «Всё не в порядке, если ты звонишь», – это была её добрая ирония.
Я вздохнула.
– Он ушёл. Сказал «ну и к чёрту тогда всё» у моей двери. И ушел.
– Ох. – Тишина в телефоне была тяжёлой. – И что ты сейчас чувствуешь? – спросила она тихо, как будто боялась дать ответ, который разобьёт.
– Я чувствую пустоту, – сказала я честно. – И обиду. И страх, что движение назад – это конец.
Ная вздохнула и предложила прийти.
– Я в 20 минутах, возьму пиццу – и вообще, давай соберём маленькое подпоручительство, – и её шуточный план звучал так, как будто она предлагает чинить вещи подручными средствами. – Будем смотреть кино, есть еду, и если хочешь, могу постоять у твоей двери, чтобы ты не думала, что он ушёл навсегда.
Я согласилась. Её появление было как спасательная шлюпка: маленькая, но плотная, и было тепло думать, что сейчас придёт кто-то, кто умеет слушать. Она пришла, действительно принесла пиццу, и мы сидели, смеялись, говорили о пустяках. Но где-то в уголке головы был голос: «А если он не вернётся?» и «А если всё действительно кончено?» – и эти голоса не давали мне покоя.
Ночь пришла и убаюкала город. Где-то вдалеке слышались редкие машины, чьи-то телевизоры – тихие и ровные как фон. Мы смеялись с Наей и делали вид, что всё в порядке, но я видела, что она внимательно слушала сердце моей тишины: у друзей есть это редкое умение – видеть малые трещины. Ная в какой-то момент сказала:
– Он ребенок-внутри.
И я поняла, что она имеет в виду: у него есть те места, которые он не умеет защищать иначе, кроме как кулаками и дистанцией. Это не оправдывает всё, но даёт объяснение.
Когда Ная ушла, я осталась одна. Пустой дом, мой блокнот, список правил, и последнее, что я придумала: «Правило №9 – не давать чужой сдаче разрушить договоры». Это было очень сложно. Я знала, что люди сдаются. И я знала, что одна сдача может обернуться концом, если не попытаться вернуть диалог. Но как тянуться, если человек не отвечает?
Я отключила основной свет и легла, но сон не шел. В голове крутились слова, которые он сказал ночью и слова, которые он сказал у двери «ну и к чёрту тогда всё». Я пыталась понять, где прошла грань. Может, он был напуган тем, что случилось в моей комнате с тем парнем; может быть, он посчитал это доказательством того, что наш дом – не безопасное место. И это обидно: кто же не хотел защитить? Но он сам стал той силой, которая ранила. Парадокс.
Я закрыла глаза и позволила мыслям медленно успокоиться. Я представляла, что завтра – новый день. Что я сделаю: скажу «давай поговорим»? Скажу «я не хочу терять»? Или буду ждать его первых шагов? Вопросы множились.
И в тишине, перед самым засыпанием, я записала последние строки в блокнот:
Правило №9 – не давать чужой сдаче разрушить наши договоры.
Правило №10 – если он говорит «к чёрту», спросить: «Что ты имеешь в виду?»
Я не была уверена, что это спасёт. Но знала одно: если я хочу сохранить, я должна действовать. И если он сдался, то, возможно, это была не финальная точка, а приглашение проверить глубже. Завтра я попытаюсь сделать шаг. Может, он вернётся с выцветшими извинениями. Может, он вообще исчезнет. Но сейчас, пока ночь держит город в ладонях, я учусь быть терпеливой и сильной одновременно. И это, возможно, самое трудное, что мне приходилось делать.
***
Я просыпаюсь не от будильника и не от кошмара – от чужого голоса. Он доносится тонким шёпотом сквозь стены, и сначала я не понимаю, где я, кто говорит и почему вдруг в голове щёлкает цепь: «не сейчас, не сейчас». Время какое-то нелепое – между глубокой ночью и утратой сна, когда всё кажется слишком сырым, чтобы решать. Я лежу, глаза закрыты, но уши насторожены, как у пленного зверя.
Зейн закрыл дверь скорее тихо, чтобы не разбудить весь дом. Но его шаги – другие, они легки и уверены, не те, что были утром. Еще второй голос – негромкий, по телефону, но в нём слышна напряжённость, как у человека, который балансирует на краю и пытается не сорваться. Я тянусь за блокнотом по привычке, пальцы натыкаются на тетрадный край, потом снова опускаю руки. Подслушивание – грубый жест, но мне не хочется вставать, не хочется быть замеченной; я просто слушаю.
«Он в порядке?» – слышу сначала тихое, вопросительное. Это голос Зейна. Там нет привычного фырканья, нет и шутливой маски – только деловой тон, притворно ровный, но в нём слышится почти детская торопливость.
«Да, он чисто входит, – отвечает собеседник, и я не знаю кто это: мужчина или женщина, молодой или нет. Голос другой, деловой. – Сегодня ровно, всё как договорились. Тебе надо зайти?»
Я пролистываю разговор наизнанку: «всё как договорились» – это звучит как сухая фраза из криминальной хроники. Я вижу в уме ребро ночи, жар и чужие кулаки – и понимаю, что слово «боец» уже не метафора.
Зейн снова: «Нет, не сейчас. Я хочу быть там лично. Скажи, чтобы он подготовился, не перегрелся, и пусть там будет врач, на всякий случай. Без большой крови, понял?»
Я сжимаюсь. «Врач» – это уже не шутка. Я представляю себе коридоры подземных залов, где запах пота кажется нормой, где люди аплодируют не театру, а боли. В ушах начинает гудеть, и мне хочется вскочить, кричать, чтобы он остановился, но в горле – пусто. Слишком много раз я слышала «я справлюсь» и видела в нём раны. Почему он ещё доказывает себе своё существование?
– Хорошо, – слышу ещё, – всё под контролем. Я буду.
И в эту паузу его дыхание звучит мне через стену как доказательство его жизни. Я опираюсь на подушку, медленно выравниваю вдохи, как будто это урок дыхательной гимнастики. «Наблюдать, не вмешиваться» – звучит в голове правило №?. Я не помню номер, но запоминаю суть.
Он говорит ещё пару фраз об оплате, о месте встречи, и я ловлю фрагменты: «честно», «без фанатизма», «он хочет выйти без перелома». Это ужасно – слушать в ночи чужие договоры о том, как сломать человека и не сломаться самому. И всё же голос Зейна иногда звучит заботливо: «береги его» – и тут что-то внутри меня сжимаются. Как можно заботиться о ком-то и одновременно отправлять его в бой?
Я прислушиваюсь: дверь тихо захлопнулась, шаги удалились. Сердце моё барабанит. Я стараюсь не шевелиться, не издавать звуков, чтобы он не услышал и не повернул голову; но чувствую же, когда угроза – она не всегда о физических ударах. Угроза – это когда ты узнаёшь правду о человеке, с которым делишь кухню.
Проходит несколько долгих минут. Я не двигаюсь. Пустота вокруг меня – как прозрачная пелена, в которой хорошо видно все предметы: лампа, блокнот, карандаш, который я зажимаю в пальцах. Я ловлю ритм собственного сердца: бум – пауза – бум, и мысленно начинаю раскладывать то, что услышала.
«Не говорить сейчас», – шепчет голос разума. «Подождать». Я стряхиваю с себя порыв разгромить его комнату вопросами и вместо этого достаю блокнот, потому что это именно тот инструмент, что помогает выжить: писать. Я делаю короткую заметку: «Подслушала – бой. Не поднимать тему сейчас. Наблюдать. Зафиксировать следы.» Рука дрожит, когда пишу, и слова кажутся тяжелыми.
Я всегда умела замечать следы: отпечатки на ручках, пятна на воротнике, запахи. Но теперь эти следы выглядят как дороги в другое, опасное место. Я вспоминаю синяк на его скулах, «разбитые котяшки» на руке; он говорил что это бар, случайность – но мелькания слов «бой», «боец» и «врач» – они складываются в картинку сильнее простых оправданий. Я переворачиваю лист, делаю маленькую галочку и чувствую стыд: почему я шпионю? Почему мне не хватает смелости спросить прямо? Боюсь испортить. Боюсь сделать шаг, который разрежет то, что может быть началом другого. Боюсь услышать «я один» и где-то согласиться с этим.
Я выключаю основной свет в комнате. Непривычно темнеет. Тень от лампы ложится на стену – как чёрная полоса, что делит наше пространство на «его» и «моё». Я лежу в тишине и снова слушаю. Вдали слышна музыка, но приглушённая, как будто кто-то пытается оставить веселье в гостиной, не зная, что в моём сердце уже началось другое. Думать – это опасно, потому что иногда мысли сами просят действия. Моя мысль сейчас просит – не говорить, не разжигать, наблюдать.
Я не верю, что он специально хотел, чтобы я слышала. Скорее, стечение обстоятельств, тихая ночь и его деловые нотки. Но у меня есть странная сила – я умею ждать. И знаю, что рано или поздно правда сама вспомнит о себе. Сейчас лучше не срываться. Если я выйду сейчас к нему с вопросами, он закроется и замкнется; если я буду молчать – возможно, он сам придёт и расскажет.
Но страх – змея, которая любит молчание: если её не кормить словами, она найдёт способ укусить. Я не хочу, чтобы это было шипением моей агрессии.
Я переворачиваюсь на бок, блокнот кладу под подушку – чтобы, если сон выскочит, было куда записать ночь. Сон идет медленно; мысли бряцают, как цепи. Я слышу, как в коридоре снова шаги: не его, нет – другие, смех, шепот. Они, видимо, собираются на новую «встречу», я не знаю. В голове снова промелькнул его голос: «береги его» – и тогда мне кажется, что между ним и остальными есть и доля правды; он действительно беспокоится о тех, кого отправляет в бой. Но разве это оправдание?
Я вспоминаю всё: его защитное «ты мне не пара», его резкие границы, и ту внезапную, неумелую заботу, что он проявил вчера. Всё сложилось в пазл, у которого ещё не хватает кусочков. И один кусочек – это правду о боях. Я знаю, что если достану этот кусочек сейчас и приложу к картинке, может, она станет ужасной. Но, может, без него я не смогу понять его по-настоящему. Желание знать – ядерное, но разум шепчет: «Подожди. Пока нет нужды рвать нитки».
Я закрываю глаза, но не позволяю себе заснуть сразу. В темноте я тянусь к памяти, вспоминаю как он шел, когда впервые перестал шутить, как сжимала губы ночью. Я пытаюсь построить причины: детство, пустота, потребность чувствовать себя живым. Это не оправдание, и я не готова к оправданиям. Но я уже не могу поверить, что он – только маска, только флирт и вечеринки. Человек – сложнее, и иногда в его сложности есть опасность.
Ночь катится дальше. Я слышу, как в гостиной падает что-то – может, банка, может, стекло. Сердце мое подскакивает, но я умело приглушаю реакцию. «Не вмешиваться», – повторяю я себе как мантру. Это не равнодушие, это стратегия. Я не хочу, чтобы в нашей квартире один человек был дворником чужих ошибок.
Утром будет другое. Утром можно будет взять тот листок с записями и задать ему – не обвинение, а вопрос. Но утром – это завтра, и завтра иногда приносит ответы. Сейчас же – ночь, и я тихо записываю в блокнот последнюю мысль: «Слушать, но не разоблачать. Это его битва, пока что. Я – наблюдатель». Я подпишу это как-то иначе – не правилом, а заметкой. Потому что слово «правило» звучит жестко, а я ещё хочу, чтобы между нами были мягкие места.
У меня сковывает горло, когда в голове много мыслей – они толкаются и перекрывают друг друга, как занавеси на ветру. Чай остыл в кружке, я переложила её на стол, но горло по-прежнему пересохло. Надо попить. Я встала, натянула халат и осторожно открыла дверь комнаты.
За порогом – кромешная тьма. Не полумрак, не «немного сумрачно», а именно тот плотный, горячий, выпирающий мрак, который закрывает вещи и превращает знакомые углы в чужие. Сердце мгновенно подпрыгнуло: дыхание сбилось, ладони стали влажными. То ощущение – детское, бесспорное – как будто кто-то нажал на меня невидимую кнопку страха. Ноги подкашивались, и я на ощупь шагнула к стене, рука искала выключатель.
Пальцы касаются холодной поверхности. Я трогаю пластик, провожу по нему, и пальцы всё ищут и ищут – там пусто. Где-то в темноте – голос. Его голос: низкий, сухой, и от него сразу становится холодно по коже.
– Не включай этот чертов свет, – прозвучало из тьмы. Три часа ночи, и он говорит это спокойно, без паники, будто произносит инструкцию для машины. Голос не злой; он ровный, почти шутливый. Но в моих ушах это – удар.
Я ощущаю, как слёзы сначала собираются, а потом катятся. Не потому что он сказал «не включай», а потому что мне страшно – так страшно, что маленькая девочка в моём теле снова просит: «Пожалуйста, не оставляй меня в темноте». Шёпотом, голос дрожит, я говорю ему:
– Зейн… это не смешно. Я не могу так. Я не могу.
Тишина от него на мгновение. И потом – смех. Но это не злорадный хохот, не издёвка. Это короткий, странный звук, будто кто-то пытался улыбнуться сквозь усталость.
– Ох, ну – смеётся он негромко, – прости. Я не хотел. Я просто думал, что… – и как будто он сам ищет причину.
И тут всё внутри меня взрывается маленьким, но точно нацеленным флешбеком: тёмный павильон музея, экскурсия в старшей школе, детские шаги, мои пальцы, которые скользили по стене, и его голос – громкий, уверенный, разрезающий тишину класса: «Ха, Иви, боишься темноты? Спрячься, и мы тебя найдём! Тебе как будто пять лет, это смешно!» – и весь класс, и эти замечания, и смех, и меня – стоящую в уголке, покрасневшую до корней волос, пытающуюся не плакать, потому что плакать – означало быть смешной, а смех – означал, что тебя запомнили как слабую. Эта шутка потом шла за мной как тень: лайки, подколы, короткие насмешки в коридорах – и я научилась прятать себя, будто это было стратегией выживания.
Я отступаю в темноту, дышу тяжело, и слова из прошлого бьют по мне снова, как мокрая тряпка. И здесь, посреди ночи, когда я уже думала, что могу отпустить, он смеётся – и смех этот всплывает у меня вместо музыки. Я не могу держать это в себе.
– Ты помнишь в школе? – вырывается у меня, остро, как крик в тишину. – В темном павильоне. Ты смеялся тогда. Ты шутил про меня при всём классе. Что в свою очередь принесло кучу издёвок после. А ты когда-нибудь задумывался о причине?
Слова летят в темноту. Я жду, что сейчас он оправдается, что скажет «нет, я не помню» или «ты все напомнила по-другому», но в его голосе слышится удивление – не злость, а именно удивление, как будто он действительно не соотнёс это вместе в своей голове.
– Я… я не знал, – отвечает он тихо, и это признание звучит шокирующе простым, почти неправдоподобным. – Я не помню, чтобы так получилось. Если я сказал… я, должно быть, не думал.
Его удивление не снимает со мной воспоминания, не стирает тот звук смеха в коридоре и не спасает от чувства, что меня предали – и при этом я чувствую и другой, парадоксальный импульс: может быть, он действительно не понимал? Может быть, это была та же легкомыслия, что свойственна молодости: сказать шутку и уйти, не представляя, какую рану оставишь. Но это знание – не оправдание. Для меня тогда это было унижением, а унижение – это метка, которую не стирают фразами «я не помню».
Я слышу, как он делает шаг; в темноте щёлкает что-то – может быть, он подходит ближе, возможно, хочется увидеть, как я реагирую. Я не вижу, но ощущаю присутствие. Слёзы давят, и в голосе моём только железная доля гнева смешивается с уязвимостью:
– Это было не смешно, – говорю я тихо, но твердо. – Это было ужасно. И ты помнишь это как шутку? Как тебе это кажется нормальным?
– Я не думал о последствиях, – отвечает он, и теперь в его голосе слышится усталость. – Я не хотел сделать тебе больно. Я… если бы знал, я бы не говорил.
Удивление в его голосе имеет оттенок раскаяния. Но я не могу сразу поверить. В голове борются две картинки: он, который сейчас сидит у двери, и он, который однажды рассмешил класс. Не знаю, есть ли место для него в этой новой картинке. Я чувствую, как внутри меня собирается ярость – не ради унижения в прошлом, а ради того, что это снова случилось: кто-то смеялся, кто-то не подумал, и я – снова та, кто держит шрам.
– Ты просто не думаешь, – вырывается у меня. – Ты говорил тогда, и ты не думаешь сейчас. Может, ты забыл – но я не могу забыть. Ты сделал так, что мне было больно годы. Это не шутка. Это следы.
Он замолкает. Я слышу, как его дыхание учащается, слышу как он, возможно, ловит себя на том, что сделал больно. На мгновение мне кажется, будто он мимолетно показывает кусочек другой души – не этой холодной, не этой самодовольной, а ту, которая отрекается уязвимости. Я хочу поверить, но какая-то часть меня уже выучилась быть осторожной.
Я злюсь не только на него, но и на себя: за то, что позволяю старыми ранам править моим ночным миром; за то, что влезаю в чужие разговоры; за то, что снова рвусь, когда можно было бы просто закрыть дверь и лечь. Моё дыхание превращается в мелкую дрожь. Я огрызаюсь, потому что так легче не плакать:
– Ладно. Я не хочу слышать это сейчас. Мне достаточно. – Я делаю шаг назад в темноту и почти бегом возвращаюсь в комнату, чтобы закрыться за дверью. – Мне нужно побыть одна.
Дверь нажимается, и её щелчок отдаётся в комнате так громко, как будто бы это всё был финальный аккорд. Внутри меня буря – раздражение, обида, и теперь ещё больше страха: страх, что если дать ему второй шанс, он снова шуткой вырвется наружу и снова сделает мне больно, даже не заметив. Я ложусь на кровать, слёзы наконец прорываются, но не горячим потоком: мелкими каплями, которые сольются с подушкой и будут там потом – как маленький атрибут ночи.
Я не знаю, что он чувствует в этот момент: в его голосе было удивление, может быть – сожаление. Но мне нужно время. Мне нужно, чтобы ночь отступила, чтобы я могла снова быть логичной и не настолько реактивной от каждой тени. Я чувствую, как помещаю этот эпизод в отдельную коробку: «Шутки, которые оставляют след». Вытаскивать её буду не сегодня.
Перед тем как заснуть окончательно, я хватаю блокнот. Пишу крупными буквами, потому что ночь всегда требует чёткости:
«Правило № 11 – не позволять чужим шуткам становиться моей травмой вновь. Просить объяснения, когда готова. Не молчать.»
Под подписью делаю пометку: утром – спросить. Но не обвинять. Сначала – понять, потом решать.
Я слышу ещё один тихий шаг в коридоре – возможно, он проходит мимо моей двери, возможно, возвращается к своим мыслям. В темноте я чувствую себя и слабой, и сильной одновременно: слабой, потому что страх ночи снова пришёл ко мне, и сильной, потому что я сказала «нет» и ушла. Это не победа, но это действие. И иногда достаточно сделать шаг, даже если он маленький и шаткий.
Ночь снова спускается на меня, и медленно шумы утихают. Я засыпаю под лёгкое эхо его прежнего смеха и под собственное решение – не дать прошлому просто так убить то, что может быть между нами. Утро покажет, вернётся ли он с объяснением. Пока же я держу своё тёмное место закрытым и учусь дышать в темноте.
Глава 6 – "Игра в нормальность"
Кофе перестал быть напитком – теперь он превратился в состояние. Большие кружки – пустые, лежащие в беспорядке, как трофеи бессонницы. Мой ноутбук светился голубым, страницы в блокноте были исписаны до самых краёв: имена, цитаты, вопросы, которые я ещё не умела задавать. Пальцы давно приросли к ноутбуку – будто если отпущу, текст сбежит от меня первым поездом
За стеной гремел другой ритм: ритм ножа по картону. Иногда звук напоминал барабан, иногда – царапанье и шёпот чего-то, что пытается принять форму. Музыка – громко и без стыда – поднималась и опускалась волнами. Это была его музыка: никакой деликатности, только удар, бас и мелодия, которая, кажется, учится быть комнатой.
Я не склонна к долгим размышлениям о смысле вещей – предпочитаю смотреть на реальность прямо. В этой двухкомнатной дуэли мы были как два странных механизма, настроенные на одну и ту же бессмысленную гонку: с часами, с ожиданиями, с собственным перфекционизмом. Я стучу по клавишам, будто пытаюсь зафиксировать мысли на гвозди, он разрезает картон так, будто каждое движение оставляет маленький шрам. Мы оба боремся с чем-то до утра, только у каждого свои инструменты и почти одинаковые шрамы, о которых не говорят вслух.
– Ты можешь хотя бы сделать музыку потише? – спросила я, потому что вежливо было указать на акустическое насилие.
– А ты можешь перестать стучать по клавиатуре, будто собираешься пробить ею стол? – он отвечал так, как будто это шутка, но в его голосе то и дело проступала усталость.
Ответы были короткие, потому что ни у кого из нас не осталось сил на длинные речи. Вечер сгибался в сторону рассвета, и сарказм вытекал естественно, как масло по сковороде. Но между этими короткими ударами слов вдруг промелькнуло нечто похожее на уважение – мимолётное, почти невидимое: оба знали, что другой горит своим делом не меньше.
В какой-то момент я заметила, что в углу стола лежит его лезвие, рядом – клей, рядом – фрагменты макета, которые могли бы стать картиной абстрактного мира. Пыль от бумаги попала на ладонь, казалась плотной и сладкой, как запах городского дождя, когда он только начинался.
К утру квартира выглядела как поле битвы: на кухне – пустые тарелки и картонные обломки; на полу – мешочек с инструментами, у порога – моя эспрессо-машина с каплей кофе на кофейной ручке. На моём блокноте, среди моих записей, кто-то оставил небрежный набросок – дом. Тут была только простая линия крыши и криво очерченная дверца, но в контексте моих пометок это выглядело как непрошеный знак сочувствия. Я не была уверена, чья это рука – мужская, грубоватая, но аккуратная достаточно, чтобы не порвать бумагу.