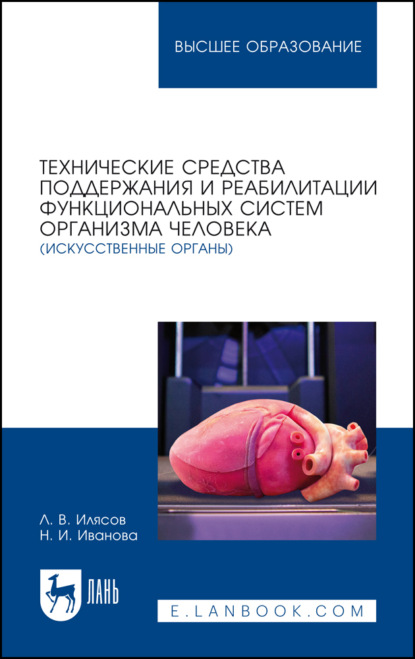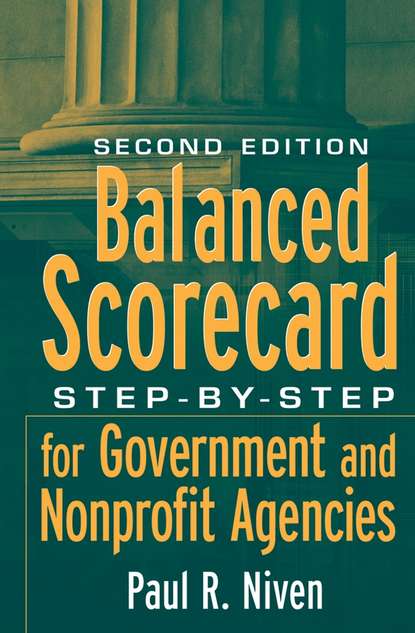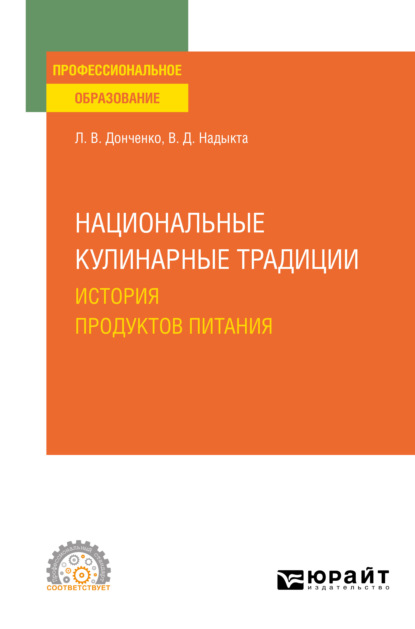Глубина

черновик
ОНИ НЕ ОХОТНИКИ. ОНИ — АНТИТЕЛО.
Ходок Сова стал стражем. Не по своей воле — древняя сущность в облике Девочки сломала его волю и приказала охранять Сад, где чудеса растут, как цветы. Он думал, это его последняя битва.
Он ошибался.
Из глубин Хмари выползает нечто новое. Скользкие. Они не убивают. Они стирают. Их цель — вернуть мир в великую Тишину, где не будет ни боли, ни памяти, ни самого существования.
Теперь Сад, последний оплот жизни, — главная мишень. А Сова, ходок Соня и преданные солдаты с Большой Земли, брошенные своим командованием, — последние, кто может поставить предел небытию. Их миссия — не победа. Их миссия — найти способ убить саму идею конца. Потому что в мире, где реальность искажена, а чудеса умеют договариваться, единственное, что нельзя исправить, — это полное исчезновение.