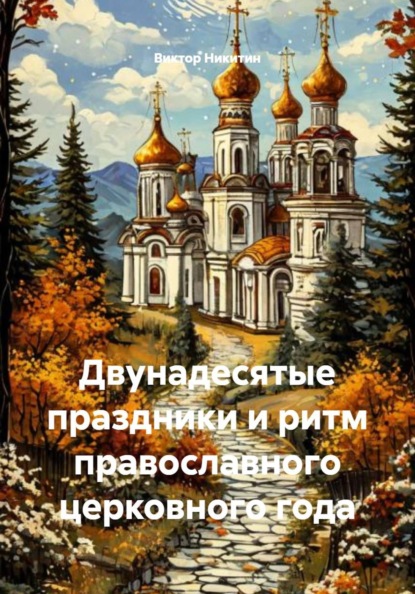Копенгагенская интерпретация
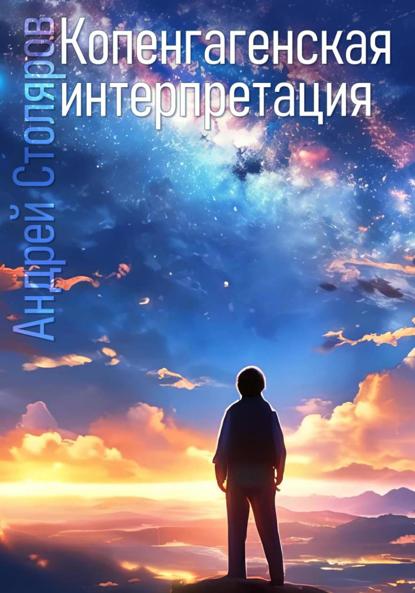
- -
- 100%
- +

Андрей Столяров
КОПЕНГАГЕНСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Ночью ему снится Зимайло. Квадратная, как неуклюжий скворечник, башка плавает над трибуной. Торчат в обе стороны хрящеватые уши. Разевается пасть с желтизной редких зубов. Просто какой-то Хэллоуин. Таким только детей пугать. Зимайло по обыкновению вещает что-то о Достоевском. Оказывается, Федор Михайлович совсем не умел писать: неряшливые громоздкие фразы, наползающие друг на друга, мутный язык, вялый сюжет, ни таланта у человека, ни литературного вкуса. И вот, его почему-то читают, непрерывно печатают, монографии о нем создают, а он, Зимайло, пишет нисколько не хуже, такие же детективы, но вынужден издавать книги за свой счет.
– Ну почему, почему?..
Стон отчаяния в дурном оцепенении зала.
Да потому, что ты дурак набитый! – хочется крикнуть Маревину. Потому что законченный идиот! Двух слов не можешь связать!..
Он, однако, молчит. Бессмысленно спорить с тем, на кого еще во младенчестве, уронили утюг. Надо просто перетерпеть. Тем более что за длинным столом президиума сияет напыщенный, самодовольный Мурсанов, отдуваясь, попыхивая от счастья: как же, на почетном месте сидит, далее – преисполненный собственной значимости Залепович, вздернувший надо всеми приплюснутую черепашью голову. Тут же подсовывается к нему приторно-услужливая мордочка Паши Лемехова, чуть ли не вылизывая щеку начальства, что-то нашептывает, наверное, зазывает к себе на рюмочку чая. Ну и, конечно, угнездился по центру Виталя, пардон, наш непотопляемый Виталий Григорьевич, – плоская, масляная физиономия, словно сковорода в комках застывшего жира.
От одного их вида Маревину становится дурно. Но одновременно и помогает: он выдирается из сонного оцепенения. Пошатываясь, выпрастывается из-под одеяла. Голова у него чугунная, как всегда после собраний в Союзе. Ирша однажды ему на это сказала: а вот не сиди на советах неправедных. Это же гумус, пахучий литературный компост, перепреет, тогда, может быть, сквозь него что-нибудь прорастет.
– Или не прорастет, – заметил Маревин.
– Или не прорастет. Там слишком много всяких ядовитых отходов.
И все-таки, с чего это вдруг Зимайло? Почему поднялся со дна подсознания темный удушливый ил? Или это такое предупреждение? Ведь Зимайло погиб… уже сколько?.. дней десять назад. Схлопнулась очередная Проталина, не успел выбраться из своего занюханного… кажется… Сертопольска… Черт, не вспомнить, куда его там запихали!.. Бедный, бедный, вероятно, что-то такое предчувствовал, яростно требовал, чтобы его направили хотя бы в Ростов, по слухам, взбесился, устроил Зинаиде истерику, грандиозный скандал, чуть ли не разрыдался по бабьи. В Ростов, тем не менее, поехал Сева Клещук…
Тоже – нисколько не лучше.
Маревину не хочется думать об этом. У него сейчас совершенно другие проблемы. Он, умываясь, с силой растирает лицо. Он даже подрагивает от нетерпения, будто на старте, ожидая сигнального выстрела пистолета. Включает электрочайник, который начинает низко, как шмель, натужно гудеть, всыпает в стакан три полных ложки растворимого кофе, добавляет туда же три ложки сахара, «белую смерть», заливает примерно до четверти горячей водой. Вкус и запах у этой бурды суррогатный. Зато действие термоядерное – жесткой щеткой проводят по извилинам мозга. Кажется, он начинает что-то соображать. Уже рассвело, сад, в неге от ночного дождя, тих и прозрачен. Окутывает его утреннее парная туманность. Из окон, сквозь невесомые стекла видно, как лохмами яростных солнц пылают на клумбе багрово-фиолетовые георгины.
Сразу три крупных цветка.
Видимо, распустились за ночь
Умиротворяющая картина.
По ней не скажешь, что город покачивается на краю черной бездны.
Что жить ему осталось всего ничего.
Впрочем, это еще неизвестно.
Он просматривает местные новости. Марьяна, рыжая эта, которая бесчисленное количество раз пыталась взять у него интервью, приподнятым голосом извещает, что, согласно сведениям, полученным со станции аэронаблюдения, Проталина вокруг города фрагментировалась на изолированные отрезки. Говоря проще, распалась на части, общая протяженность ее уменьшилась примерно наполовину. Сейчас эти сведения проверяются. Вместе с тем, по сообщениям граждан, которые звонят к нам в студию, открылись дороги к вокзалу, по крайней мере с юго-западной его стороны и даже – к Никольскому с выходом на Сибирский тракт. Возможно, блокада завершена. Пока неизвестно, связано ли это со вчерашним … э-э-э… культурным мероприятием, но администрация города просит всех соблюдать выдержку и спокойствие. В нашей студии мэр Красовска Терентий Иванович Елтух…
На экране всплывает помятая физиономия мэра, который обеими ладонями торопливо приглаживает встопорщенные гребни волос по бокам головы. Судя по виду, ввалился сюда в последний момент.
– Дорогие сограждане…
Ну, это можно не слушать. Тем более что, как бы Маревин ни сдерживался, но на него все же накатывается вчерашняя, обжигающая волна: звуки становятся громче, свет ярче, очертания предметов контрастнее, словно просачиваются они из той же вулканической кульминации, когда вспыхнула, соединившись с вечностью, космическая темнота, когда вдруг просияли звезды, окатив неземным бледным сполохом зрительный зал, когда замерли в обмороке сердца, и ангел, взмахивая полупрозрачными крыльями, взлетел над сценой, как призрак, рожденный небытием. Контрастный свет утра – это своего рода, знак. А распустившиеся свеженькие георгины – тем более. Значит, Проталина действительно начала фрагментироваться? Жизнь возрождается? Не до мэра ему сейчас. Сердце, будто анкер часов, постукивает внутри: быстрее, быстрее!
Вот, кстати, и сотовый телефон заработал. Ничего себе, с трех ночи накопилось почти четыре десятка звонков. Он сразу видит, что несколько, идущих подряд, это от Терентия Ивановича, то есть от мэра, парочка, что естественно, от Леонида, тоже, видимо, возбудился, прослушав последние новости, штук пять от Дарины, ну это понятно, а незнакомые, целая вереница, от журналистов, которые жаждут получить комментарии, – стирает их все, телефон вновь отключает. Хорошо, что вчера перед сном он выдернул вилку стационарного гостиничного аппарата.
Замучили бы, спать бы не дали.
Но как, однако, стучит анкер внутри!
Через десять минут, выведя из хозяйственной пристройки велосипед, он неуверенно, давно, черт возьми, не садился в седло, едет по асфальтовому покрытию, именуемому Вязовой улицей. Вязы здесь мощные, раскидистые, посаженные бог знает когда, узорчатые их тени, перекрывают улицу на всю ее ширину. А между ними – кусты боярышника, осыпанные красными ягодами. От этого тихость утра кажется особенно напряженной. Слышен лишь шелест шин, поскрипывание толстой пружины, амортизатора под сиденьем, мерное, металлическое побрякивание педалей. Более ничего – ни звука, ни шороха, ни движения. И дело тут, конечно, не в вязах и не в боярышнике, просто дома, кремовые двухэтажные особнячки по обе стороны трассы стоят пустые: светлыми бельмами взирают отовсюду закругленные окна, на подъездных дорожках, в чашах иссохших фонтанчиков скопилась листва. Кругом – заброшенность, оцепенение. Маревин, возможно, единственный, кто сейчас на этой улице обитает. Остальные эвакуировались, говоря проще, сбежали. По ночам неприятно: его так же, как несколько дней назад, когда после очередного бестолкового совещания, он стоял, ослепленный солнцем заката, перед зданием мэрии, пронзает ясное ощущение, что вокруг нет вообще никого, что он – последний человек в этом городе, последний человек на земле.
Тем более что на проспекте, куда аллея сворачивает, ситуация примерно такая же. Прохожие, правда, здесь появляются: вторник, без четверти девять, торопятся на работу, но, даже специально не вглядываясь, он видит, что лица у многих по-прежнему бледные, словно вымоченные в воде, глаза – серые, почти без зрачков, как желток вываренного яйца. К счастью, не у всех, не у всех. Да и движутся они несколько оживленнее. Или ему только кажется? Вот наконец и кафе «У Лары». Желтую ленту полицейского ограждения с него уже сняли, но дверь заперта, внутри, судя по стеклам-витринам, сумеречная пустота. Или нет? Угадываются какие-то тени движений. У Маревина пробегают по позвоночнику вверх ледяные мурашки. Неужели еще один мерзкий паук выполз из тьмы, сейчас опутывает кафе паутиной – поджидает жертву, шевелит суставчатыми крючковатыми лапами? Паук-людоед в центре города. Он резко выворачивает голову, чтоб посмотреть. Велосипед тут же виляет, шаркает колесом о поребрик. Руки судорожно фиксируют руль. Не грохнуться бы на асфальт посередине проспекта.
Нет, все-таки показалось.
Или не показалось?
Слегка успокаивает его военный патруль: двое солдат, свесив ноги, дежурят, приткнувшись к башне пятнистого, серо-зеленого бэ-эм-пэ. Эти вроде нормальные, вон, как зыркают, настороженно, крутя бошками, по сторонам. Оба с автоматами, наверное, только что заступили. Полковник Беляш все-таки молодец. Пусть мир растрескивается, пусть расползается по всем швам, пусть рвется в клочья, пусть проваливается в тартарары, хрен с ним, у полковника, в пределах его компетенции, все под контролем. И супермаркет, который на днях разграбили, тоже уже относительно приведен в порядок: витрина еще зияет зубчатой пастью, но осколки стекла с тротуара выметены, желтые полицейские ленты как полагается, крест-накрест перегораживают пустоту. К тому же сам супермаркет в поле зрения солдат с бэ-эм-пэ.
Однако гораздо большее впечатление производит дерево в тесном скверике. Вчера от одного его вида бросало в дрожь – земляной кальмар, тоже хищный, подкарауливающий добычу: толстый бутылочный ствол с кожистыми наростами, на вершине – венчик щупалец, извивающихся, как удавы. Что-то полностью чужеродное, пришелец из нездешних миров. Не зря, видимо, ряд экспертов до сих пор считает все это Вторжением. Возможно, и не прямым Вторжением, но целенаправленным неуклонным просачиванием на Землю. Инфильтрацией ксеноморфов, как, помнится, написала «Гардиан» в одной из своих статей. Удивительно, что удалось это дерево сохранить, несмотря на бурные и настойчивые протесты общественности, несмотря даже на рекомендации, разработанные Особым Комитетом ООН, недвусмысленно озаглавленные: «О локализации внеземных артефактов». Но Красовск – это вам все-таки не ООН. От лица Уральского федерального университета насмерть встал Леонид, потребовав оставить дерево как объект перспективных исследований. Кстати, и полковник Беляш его поддержал, вероятно, тоже имея виды на этот неожиданное явление. И вот поглядите сейчас – ствол вытянулся, постройнел, ветки, хоть и подрагивают, как живые, но распределяются по нему более-менее равномерно, отнюдь не щупальца, и даже проклевываются на них первые неуверенные листочки. Это уже никакой не пришелец, это обычный вяз, почти не отличающийся от тех, что растут вокруг кремовых особняков. И борщевик на Окраинной улице, смыкающийся зонтиками соцветий на уровне третьего этажа, тоже изменил внешний облик: стебли его подсохли, проступили на них твердые древесные жилы, а сами соцветия почернели – опалило их незримым огнем.
Загибается борщевик.
Нет сомнений, что загибается.
И значит, мелькает у Маревина мысль, вчерашнее представление все же подействовало. Значит, ощущение, возникшее у него на спектакле, было далеко не случайным. Значит, и в самом деле возник физический резонанс. Как бы сформулировал это Леонид, постукивая себя указательными пальцами по вискам, образовалось квантовое сопряжение с Логосом.
Ну, он физик, ему виднее.
И значит, надежда у них все-таки есть.
Все-таки есть.
Ладно, посмотрим, что будет дальше.
Маревин энергичнее жмет на педали. Откатываются назад новостройки, похожие на вертикально поставленные спичечные коробки. Проплывают мимо сознания капустные и картофельные поля, уходящие расчесанными грядками в горизонт. Надвигается узкий клин леса, и сразу же дорогу перегораживает шлагбаум с табличкой: «Опасная зона! Проход категорически запрещен!». За ним дощатым домиком горбится навес от дождя. К счастью, сейчас он пустой, солдат, которые здесь поначалу торчали, Беляш три дня назад снял: все равно ни один нормальный человек сюда не пойдет.
– А если кто ненормальный? – помнится, спросил Терентий Иванович.
Беляш глазом в ответ не моргнул:
– Ну тогда – пусть идет. Ненормальный… Что, у нас других забот нет?
Забот у полковника Беляша, конечно, хватает. Маревин прислоняет велосипед к правой стойке шлагбаума. Можно не опасаться, никто его здесь не прихватит. Осторожно ступая, он движется по дороге, стиснутой с обеих сторон буйными зарослями черемухи. Начало августа, черемуха уже вызревает: гроздья черных ягод отягощают ветви, кое-где полностью скрывая листву. Какой-то необыкновенный в этом году урожай. Фаина утверждает, что нигде в области больше такой черемухи нет – крупная, сочная, от одного запаха кружится голова. Жаль, что собирать ее некому. Маревин невольно вслушивается в стиснутый ароматом воздух. Тишина здесь даже более плотная, чем на Вязовой улице – не слышно не только птиц, но не чувствуется ни надоедливых мошек, ни комаров. И это понятно – метров через сто цвет растительности меняется: листья на черемухе теперь пепельно-серые, обвисают, ягоды неприятно бурые, внутри них уже не мякоть, а слизь, трава при каждом шаге сминается в слякотную липкую муть, тянется за Маревиным отчетливая цепочка следов. Идти тут, к счастью, недолго. Клин леса заканчивается, распахивается знойное августовское пространство. Половину его заслоняют Крутояр и Могутка, предгорья Урала, вздымающиеся пологими склонами ввысь. На склоне Могутки раскинулся производственный комплекс: из чертовых пальцев труб, в безветрии, как продолжение их, тянутся к небу оранжевые струи дымов, а по Крутояру, там, где он, отступив, образует небольшое плато, разбросаны прямоугольнички заводского поселка. Причем слева от окраины их, отделенные редкой бахромкой елей, движутся, перенося грузы, ажурные стрелочки кранов, шебуршат под ними мелкие игрушечные грузовички – идет безостановочное лихорадочное строительство. Техники-то сколько сюда нагнали! И гораздо больше стало людей, он видит: копошатся, как муравьи, почти неразличимые крохотные фигурки. Вот и под кучерявыми облаками стрекочет, как грузное насекомое, очередной вертолет – эвакуация из города продолжается. Да, у полковника Беляша работы не прекращаются ни на секунду. Что с этим будет теперь, когда Проталина вроде бы испаряется? Остановятся? Вряд ли. Уже такие средства освоены. Скорее всего будет еще одна гигантская и бессмысленная стройка.
Да начихать, сейчас не это главное. Заслонясь ладонью от солнца, Маревин рассматривает длинное черное озеро, протянувшееся почти до железной дороги. То есть до того ее ответвления, которое проложено к заводскому комплексу. Озеро не слишком широкое, метров восемьдесят, казалось бы, всего ничего, но эти смертельные восемь десятков метров образуют непроходимый барьер. И чернота его тоже неземного происхождения: гладь абсолютно ровная, ни морщинки, ни всплеска, точно загустелая тушь, там даже небо не отражается. Портал, ведущий в пугающее иномирье, в другую Вселенную, а если выражаться метафорически – прямо в ад. Так, во всяком случае, недавно заявил патриарх. В физической сущности этого явления Маревин не разбирается, но интернет полон статей, где говорится, что Проталина поглощает свет, впрочем, как и любые электромагнитные излучения, и так же поглощает любой материальный объект: приборы, опускаемые внутрь нее, растворяются без следа. Там растворяется все вообще. Немцы на первых порах, пытаясь локализовать одну из своих Проталин, тупо закачивали туда бетон, тоже нагнали техники, вбухали около миллиона тонн, и что? И ничего; даром, что это не бездна, а пленочка, плоскостной мономер, согласно исследованиям, даже не имеющий физической толщины. А с другой стороны – именно бездна, дна в Проталине нет, такой вот физико-геометрический парадокс, легендарное «черное вещество» неизвестной природы. Кстати, и особо вглядываться в нее не стоит: «если ты смотришь в бездну, то и бездна тоже смотрит в тебя». Говорят – завораживает до потери сознания. Человек, как сомнамбула, шагает туда и проваливается в кромешную темноту. Маревин и не вглядывается особо, без того известно, что Проталина, изгибаясь, заключает Красовск в сплошное кольцо. Дня четыре назад город с Большой землей еще связывали две перемычки, одна здесь, колеблющаяся, ненадежная, по которой машина уже не пройдет, и вторая, выводящая к Бочагам, вся в колдобинах, прежде заброшенная, вот по ней и осуществлялось снабжение – шли, надсадно тужась моторами, колонны грузовиков.
Картина Рериха «Град обреченный»: гигантский огненный змей стискивает со всех сторон город, замерший в безнадежной тоске.
Но – точно ли он обреченный? Щурясь и проклиная солнце, которое бьет прямо в глаза, Маревин, тем не менее, замечает, что расстояние от черного языка озера до ветки железной дороги несколько увеличилось. Да-да, увеличилось, это не обман зрения, не знойный мираж! А сам язык явно стал уже и – вон там, точно, вон там! – разделился на две, нет, на три длинные лужицы, вроде бы даже подсыхающие по краям. Более того, на ближнем обнажившемся берегу он видит ковш экскаватора, торчащий из чуть просевшей земли, как лапа допотопного ящера, обглоданная до костей. Экскаватор, выходит, не полностью утонул, то есть структура почвы, бери выше – материи, на этом участке частично восстановилась.
И значит, Марьяна права?
Блокада прорвана?
Из очумелых загробных странствий мы возвращаемся в обычный человеческий мир?
Он невольно делает три шага вперед, и тут же ноги его по щиколотку погружаются в жидкую грязевую кашу. Вода прохладой затекает внутрь низких кроссовок.
Назад! Назад!
Нельзя расслабляться.
Бездна притягивает.
Так и провалиться недолго.
– С ума сошел? – негромко говорят у него за спиной.
Маревин вздрагивает. Ну конечно, это Дарина – стоит, в джинсах, в футболке своей дурацкой с надписью «Glaz!», чуть подается вперед, протягивает обе руки, готовясь схватить его и отдернуть.
Маревин пятится – тоже шага на три. Поворачивается, они чуть не сталкиваются друг с другом. Волосы у Дарины распущены, его обдает будоражащий запах духов.
– Фу-у-у… Напугала… Подкрадываешься… как… неизвестно кто… Ты что здесь делаешь?
– Я не подкрадываюсь, – немедленно возражает Дарина. – Это ты – лезешь, как сумасшедший, в самую топь… А я пришла – посмотреть. – И тут глаза ее расширяются, начинают сиять, словно отдавая скопившееся внутри солнечное тепло. – Ты видел, видел? Она уменьшается!..
Дарина опять называет его на ты. Опять, вероятно, надеясь преодолеть дистанцию между ними. Впрочем, Маревин чувствует, что, по крайней мере сейчас, никакой дистанции между ними не существует – дистанции больше нет, а есть горячечные, поспешные, из беспамятства вынырнувшие объятия. Происходит как бы само собой. Они в первый раз за все время знакомства обнимаются по-настоящему. До этого были лишь легкие малозначащие касания. А тут Дарина прижимается к нему всем жадным телом, тычется губами в губы, в нос, в щеки, черт знает куда. Шепчет, перемешивая в словах гласные и согласные, путается в них, лепечет, как младенец, едва-едва научившийся говорить: это все ты… я знала… все ты… разбудил… вытащил на свет… сделал меня другим человеком… Ты видел, что с ними со всеми было?.. во время спектакля?.. они сидели, как в обмороке… не шелохнулись… а у меня температура была градусов сорок… А дерево это ты видел?.. видел?.. А борщевик?.. он же на глазах высыхает…
Она прямо-таки светится от восторга. Она счастлива, хотя у нее осунувшееся, истаявшее тенями лицо, слабая синева под глазами, наверное, всю ночь переживала, ворочалась, выскальзывая из сна. И все-таки, она счастлива, и счастье это какой-то странной конвекцией передается Маревину. Его тоже прошибает температура, кружится голова. Он так же, как Дарина, в смятении, он так же, как она, пребывает во внезапном любовном беспамятстве. Это, несомненно, некий поворотный момент, некое мгновение, определяющее собой все дальнейшее: сделаешь еще шаг – и жизнь станет иной, не эпизодом, не текучим мгновением, а подлинным предназначением и судьбой.
Разве не этого он хотел?
Дарина между тем захлебывается словами: никогда еще… никогда ни с кем… чтобы – вот так… только с тобой… проснулась… как будто до этого вообще не жила… Она вся трепещет, она жаждет похвал, для нее это праздник, первый в ее жизни безоговорочный, настоящий, успех, она требует подтверждения чуду, которое свершилось вчера, на сцене, в чарующем перекрестье софитов. Она шепчет, что-то о перспективах, о настроении, о взаимности, о том, что у них еще вся жизнь впереди… годы, целые десятилетия… не расставаться ни на секунду… все получится… только – вместе… только – чтобы рядом был ты… Обещает, что дальше они возьмутся за «Свете тихий»… прямо просится… честное слово… проступает вся сценическая канва… лишь немного, совсем чуть-чуть прописать диалоги…
Выговаривает, торопясь:
– Я думала, ты меня прибьешь за то, что я перекроила твой текст… А оно вон как… неожиданно получилось…
У нее уже начинают пробиваться сквозь шепот какие-то перекрученные интонации, и Маревин, стараясь их приглушить, успокаивающе отвечает, что – да, да, да… было что-то подлинное… настоящее… что-то такое, чего обыденной речью не передашь… Один ангел над сценой чего стоит… Гениальная, потрясающая находка… Затем он в удивлении отстраняется: как это никакого ангела не было?.. Неужели никто не видел, кроме него?.. Вдруг пронзает: неужели только мираж?.. Спохватываясь, объясняет ей, что это просто такая метафора… А вообще, да, возьмемся… согласен… вместе пропишем… все сделаем… ты уже доказала: есть в тебе свет, который можно претворить в живые слова… Так он ей говорит. Немного выспренно, но для Дарины сойдет. И при этом он отчетливо понимает, что ничего подобного у них, конечно, не будет: ни «вместе пропишем», ни «десятилетий», ни «все получится» и – ни «на всю жизнь». Могло бы быть, но не будет, потому что свет в ней, разумеется, существует, но одновременно существует цена, которую следует за этот свет заплатить. Цена эта неизменна и высока. И потому они вновь по-настоящему обнимаются, еле дышат, ближе уже нельзя… И это в последний раз, о чем Дарина, естественно, не догадывается. Ей еще только предстоит об этом узнать.
Пока же он осторожно отодвигается от нее.
Все-таки дистанция – великая вещь.
И голос у него становится сдержанно-отстраняющий:
– Насчет Проталины… не торопись… Это могут быть функциональные колебания. Есть работа Бернара Ксавье, ты читала? О пульсирующей прерывистости континуума?
Дарина фыркает:
– Слышала что-то такое…
– Ну – вот…
Кажется, что молчание длится вечность.
Хотя – секунды четыре, не больше.
И Дарина, кажется, тоже кое-что понимает.
Понимает все то, что Маревин не решается ей сказать.
– По-моему, ты просто дурак. – с отчаянием говорит она. – Выдумал черт знает что, как будто очки для слепых надел… – Она встряхивает головой, так что разлетаются волосы. – На фиг!.. Ты меня подвезешь?
Ах да, она же без велосипеда.
Объясняла как-то, что принципиально на нем не ездит.
Вот еще незадача.
Принципы у нее!
– А пешком? – неловко спрашивает Маревин.
Дарина пожимает плечами:
– До города пять километров.
– Ну – по хорошей погоде…
– А призраки? – ядовито напоминает она.
Маревин морщится:
– Чушь! Никаких призраков нет.
Голосу его не хватает уверенности. После паука, убившего Лару, он готов поверить во что угодно. Тем более что слухи о призраках, которые похищают людей, ходят очень упорные. Люди ведь действительно пропадают. Он непроизвольно оглядывается, и сразу же, словно падает тень, начинает чувствоваться опасная тишина вокруг.
Иномирье.
Подступающая вплотную чужая земля.
Выхода у него нет:
– Ладно, пошли…
В молчании они торопливо добираются до шлагбаума. Дарина, опираясь о стойку, вскарабкивается на багажник.
Чуть подпрыгивает на нем:
– Подложить чего-нибудь мягкого у тебя не найдется? Я себе всю попу тут отобью.
Маревин лишь хмыкает. Слегка разворачивает велосипед и громоздится на него, мешковатым кулем, тоже цепляясь за брус шлагбаума.
– Давай держись!
Дарина тут же обхватывает его, прижимается, кладет голову на плечо.
– Кстати, прочла я эту твою… «Лолиту»… Ты был прав – скучная книга.
– Она не моя, а Набокова.
– Я это и имела в виду.
Маревин с силой отталкивается от земли. Перегруженный велосипед резко и опасно виляет. Дарина взвизгивает. Маревин в панике ловит ногой педаль, привставая, давит на нее всем телом, чтобы сохранить равновесие. К счастью, дорога здесь идет чуть-чуть под уклон. Велосипед, обретая устойчивость, катится все быстрее.