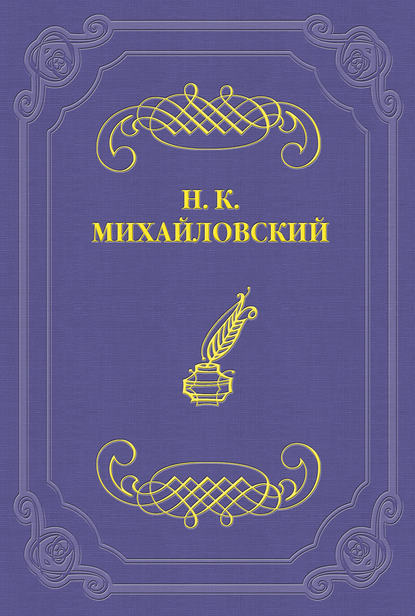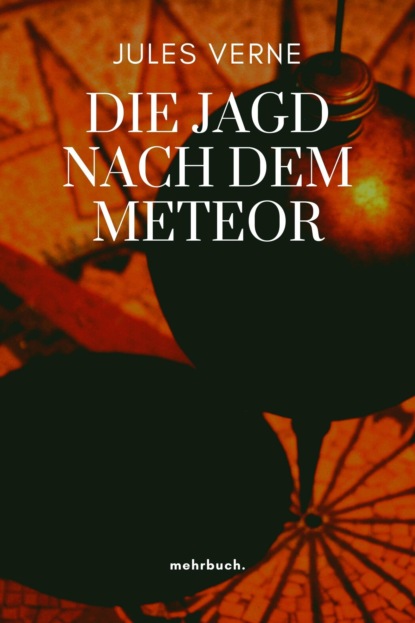- -
- 100%
- +

Defne Suman
Emanet Zaman
© Defne Suman, 2016
© Kalem Agency
© Е. Гильденкова, перевод на русский язык, 2022
© Издание на русском языке, оформление. ТОО «Издательство „Фолиант“», 2022
Всем изгнанным из родной земли…
Хоть в ночи тьме,
хоть в свете дня
жасмин всегда
остается белым.
Й. СеферисНо единственный язык, который мог бы открыть секрет Пятницы, это язык, которого он лишился!
Дж. М. Кутзее. Мистер Фо, или Любовь и смерть Робинзона КрузоI. Врата рая
Когда нашли меня средь пепла уничтоженного города,
меня нарекли Шахерезадой, и вот прошел уж век
с моего рождения,
но не наступил еще конец жизни моей,
в которой обречена я на вековое молчание.
И хоть не может мой язык вымолвить ни слова,
я расскажу,
поведаю обо всем.
Да заберет меня смерть
в этой башне полуразрушенного особняка.
Первый сентябрь
Рождение мое пришлось на прекрасный, окрашенный мягким оранжевым светом вечер, тот самый, когда шпион Авинаш Пиллаи прибыл в Измир[1].
Шел тысяча девятьсот пятый год по календарю европейцев.
Месяц сентябрь.
Когда пассажирский корабль «Афродита», на котором и плыл шпион родом из Индии, подходил к порту Измира, я еще не родилась, однако в матку, в этот темный мешочек, где я провела столько месяцев, уже стал пробиваться свет. Мама моя была не в силах даже встать, чтобы сделать пару шагов. Но не из-за моей тяжести, а из-за трубки с опием, зажатой между средним и безымянным пальцами. Отвернувшись к окнам, она смотрела, как разлетаются на ветру занавески.
В прошлом году – или уже прошло два? – она летала по залу на балу в честь середины лета в клубе в Борнове, кружилась в вихре вальса с одним из служащих компании, в чьем ведении находится железная дорога от Измира до Айдына. Как же того англичанина звали? Она помнила его выступающие скулы, помнила, что жил он где-то к северу от пристани и то, с каким мастерством, но бездушием он вел ее в танце, а вот имя вспомнить никак не могла. Мистер?.. Мистер Как-Его-Там. И как? Странное было имя. Непривычное.
Приподняв голову, она снова затянулась из заждавшейся ее трубки. Вокруг черных глаз залегали темные круги, а Мистер Как-Его-Там, кружась, уносился в ее видениях все дальше.
Нарядная «Афродита» была уже совсем недалеко от порта, и стоявший на палубе для пассажиров второго класса Авинаш Пиллаи еще и знать не знал ни о моей матери, ни обо мне. Закрыв глаза и запрокинув голову к расцвеченному в разные оттенки небу, он, точно дикий зверь, принюхивался, с силой втягивая в себя воздух. Казалось, целый день земля задерживала дыхание и теперь, на закате, наконец выдохнула; запах угля и холодного металла, который успел опостылеть молодому индийцу за время многодневного путешествия, сменился чудным ароматом трав и цветов. Роза, лимон, магнолия, жасмин… и откуда-то издалека – легкие нотки благовоний.
Авинаш впитывал, может, и не слышные для других ароматы с тем же наслаждением, с каким вкушают первый кусочек пищи при разговении; его тонкий длинный нос, придававший смуглому лицу благородство, свойственное лицам османских султанов, чутко различал нюансы каждого запаха. Благоухание роз он чувствовал особенно хорошо – даже с закрытыми глазами мог отличить белые розы от красных.
Молодого человека не прельщал ни сам город с его богатствами и возможностями, ни обитающие здесь красавицы, о которых слагали легенды. Где-то в этом городе, что лежал перед ним в мерцании красно-розовых лучей, жил старик-аптекарь Якуми. И все мысли Авинаша Пиллай занимала та полутемная комната, про которую старик писал ему в своих письмах. Мастерская позади аптеки, где получают масло из лепестков роз, а розы эти самых редких сортов, растущих в разных уголках империи.
– И чего же наш капитан ждет?
– Там грузовое судно отходит – должно быть, его пропускает.
Наверху, на подсвеченной электрическими лампами палубе для пассажиров первого класса, докуривая дорогие папиросы, выражали свое нетерпение господа во фраках и котелках. Уж не снобизм ли это? Можно подумать, лишние минуты ожидания после долгого путешествия, начавшегося в Александрии, позволившего им полюбоваться островами Родос, Лерос и Хиос и, наконец, завершающегося в Измире, имеют хоть какое-то значение!
– Вынужден возразить: грузовое судно еще и не собирается отправляться. Посмотрите, к нему подогнали баржу, должно быть, с углем. Его еще не загрузили.
– Я не об этом судне говорю, а вон о том, с тюками табака. Оно уже двадцать минут там стоит.
– Господа, наш корабль в гавань входить не будет. Там недостаточно глубоко, и не знающие об этом капитаны постоянно садятся на мель. Ничего не поделаешь, придется ждать шлюпки.
Доносящиеся с берега звуки – трамвайные гудки, стук колес по мостовой и цокот подков – напоминали о тех прелестях жизни, что были слегка позабыты, пока «Афродита» находилась в море. Некоторые из мужчин готовы были поклясться, что даже слышали женский смех, долетавший из заведений на набережной. Вокруг скользили лоцманские суда, точками мелькали тут и там парусники, разгоняли волну грузовые и пассажирские корабли, и самые нетерпеливые из пассажиров то и дело вынимали из кармана часы на цепочке.
– Ах, уважаемые, мы уже почти на берегу, а сойти не можем, до чего же это невыносимо! Ну и где эти шлюпки?
Авинаш прошел на заднюю палубу и, убедившись, что никто на него не смотрит, соединил ладони перед собой. Конечно, теперь он работал на Британскую империю, а значит, ему следовало выглядеть настоящим европейцем, но он все еще оставался внуком своего деда, просветленного старца, который надеялся достичь Высшей милости в монастыре у подножия Гималаев. Во все утомительные дни и полные бурь ночи, пока Авинаш добирался сначала из Коломбо до Порт-Саида, оттуда – в темном вагоне поезда до Александрии, а затем – на «Афродите» в Измир, Шива оберегал его, и сейчас он должен воздать ему благодарность.
Он повернул лицо к солнцу, которое опускалось в море, тая, точно алый шарик мороженого, и закрыл глаза.
– Ом Намах Шивал. Всемогущий Шива, благодарю тебя за то, что хранил меня от бед, несчастий, печалей и болезней, что милостью твоей добрался я живым и здоровым до берегов этого прекрасного города.
Он молился с детства. И не только Шиве, которому поклонялись в его семье, но и охраняющему все живое Вишне, и, конечно, творцу Вселенной Браме. Он верил, что боги, даже разрушитель и уничтожитель Шива, – его хорошие друзья и, более того, они любят его. Перед ними он представал таким, какой он есть. Если он в чем-то, сам того не ведая, провинился, просил у них прощения и всегда сердцем чувствовал, что боги и божества каждый раз миловали его, одаряли своей защитой.
– О великий Шива, божественная сила, сущее в небытии! Помоги мне, дабы на этом новом этапе моей жизни дела мои шли хорошо. Даруй мне сил, умения и разума, будь рядом со мной, дабы я успешно выполнил свой долг. Сохрани моих родителей, сестер и братьев от всяких бед, несчастий, болезней и горестей. И дай мне терпеливо снести любые тяготы…
Неожиданно подул сильный ветер. Ветер этот славен тем, что, поднявшись перед самыми сумерками, он в одно мгновение освежает даже самый жаркий день. Иногда, словно добрый великан, не ведающий собственной силы, он сотрясает все вокруг, сам того не желая, переворачивает рыбацкие лодки, и вслед ему несутся ругательства, смешанные с проклятиями. Но в тот вечер ветерок был мил и приятен. Погладив железные бока корабля с местами облупившейся зеленой краской, он игриво сорвал с головы молодого человека котелок и понес к шезлонгам, стоявшим у лестниц. Но Авинаш Пиллаи не сразу бросился в погоню. От деда своего он хорошо усвоил, что даже в момент беспокойства – особенно в момент беспокойства! – нужно завершить молитву как подобает. В спешке вернуться к мирским делам, не попрощавшись с богами, – это значит навлечь на себя несчастья.
Он торопливо коснулся ладонями лба между бровями, губ и, наконец, груди.
– О Создатель, ты велик, ты могуществен, ты творец чудес. Мы вверены милости твоей. Ом Намах Шивая.
Проговорив это, он кинулся к шезлонгу, под который улетел его котелок.
Признаться, молодой человек чувствовал вину за то, что, по сути, оборвал молитву, да еще и во время просьб. Но проказник ветер, словно желая напомнить, что жизнь наша слишком коротка и невообразимо прекрасна, чтобы растрачивать ее на такие тяжелые чувства, как вина, подхватил шляпу и унес еще дальше, а затем забрался в локоны молодого человека. Ах, что это были за локоны цвета воронова крыла! Густотой и крепостью своей они могли бы сравниться с волосами армянских девушек, которые с песнями развешивают белье. Ты, ветер, даже лодки переворачиваешь, а такие волосы растрепать не сможешь, нет! Со свистом охальник спустился по шее и пробрался под шелковую рубашку. Кожа у Авинаша была смуглой и бархатной, как у невольников с Востока, но по внешнему виду молодой человек ничем не уступал тем европейцам, с чьих голов ветер срывал шляпы во время прогулок по Кордону. Вы только посмотрите, посмотрите! Парня вполне можно было бы принять за махараджу, а путешествовал он вторым классом. Однако шагал он в своих остроносых ботинках куда крепче и увереннее, чем господа с верхней палубы. В правом ухе у него сверкала изумрудная серьга, как это было распространено у флотских, а из кармашка выглядывал платок того же зеленого шелка, что и галстук.
Отдаваясь гулом в ушах Авинаша, ветер еще раз облетел вокруг него, а затем понес его запах – а пахло от него специями – на другую сторону залива, к особняку, где на самом верху, в башне с окнами на все стороны, я проводила последние часы в утробе матери. Приоткрыв глаза, мама с сомнением взглянула на танцующие на ветру занавески. Здесь кто-то есть? Но конечно же нет, тесный мирок за стеклами на самом верху особняка был в тот вечер очень далеко от «Афродиты» и от молодого индийца.
Бог как будто подмигивает нам, наполняя нашу жизнь всякого рода совпадениями: многие годы спустя историю моего рождения расскажет мне не кто иной, как шпион-индиец Авинаш Пиллаи. И вот еще одно совпадение: в тот вечер, когда благодаря одной фотографии он разгадает тайну моей жизни, он точно так же будет стоять на палубе корабля и смотреть на город, как и в тот вечер, когда я родилась.
И снова это будет сентябрь.
Но сентябрь другой, совсем другой.
В том сентябре, когда я родилась, город сверкал своими куполами и минаретами, его маленькие домики с черепичными крышами сияли золотым светом, а в сентябрьскую ночь семнадцать лет спустя город будет реветь как зверь, пожираемый огнем пожара. И ветер, этот ветер-шутник, что назло молодому шпиону сорвал с него шляпу, в тот вечер принесет на палубу тяжелый смрад. Воздух пропитается запахом керосина и гари: вековые чинары, сбрасывающие свои сочные плоды, рушащиеся церкви, плавящаяся резина, разбитые пианино, украшенные позолотой книги – все будет в огне.
Прочь от пламени – и бесконечного сведения счетов между обитателями города – Авинаша и мою мать, лежащую без сил на его руках, увезет линкор «Айрон Дьюк», и из всех тяжелых нот зловония, доносящихся до палуб, самым ужасным будет смрад горелой плоти. Пассажиры закроют рты платками, а кого-то этот тошнотворный запах заставит перегнуться через ограждения. Запах горелого мяса и плавящихся костей, запах волос и шерсти – от кошек, забившихся в тесные уголки. Запах чаек с подпаленными крыльями, запах беспомощных верблюдов и лошадей. Запах людей, повыскакивавших, точно тараканы, из своих убежищ на чердаках и в подвалах.
Тот самый ветер, который сегодня с такой беспечностью показал Авинашу, что жизнь наша слишком коротка и невообразимо прекрасна, чтобы тратить ее на такие тяжелые чувства, как вина, в ту ночь станет настолько смрадным, что тысячи беспомощных людей, сбежавшихся на набережную, вдруг узнают, что задохнуться можно не только в воде, но и на воздухе.
Но до той ночи было еще далеко.
Давайте уж лучше вернемся в чудесный оранжевый вечер, когда я родилась. Вот я уже пытаюсь выбраться из тесной матки, а Авинаш, точно ученик, которого вот-вот вызовут к доске, вспоминает названия всех тех деревушек и районов города, о которых прежде он только читал и которые теперь видел вживую. Вот там Кокарьялы, дальше Гёзтепе, Карантина, Салхане, Караташ и Бахри-баба. С того места, где стоял корабль, видно не было, но за таможней расположилось новое, современное здание в форме буквы «П» – Султанские казармы, или, как их называли в народе, Желтые казармы.
Авинаш знал, что в этих казармах проживают шесть тысяч воинов османской армии.
А знал он это неспроста.
Он получил задание наладить хорошие отношения с военными. Разведывательная служба внимательно следила за военными во всех городах Османской империи, от Салопиков до Измира. Ему предстояло устроиться в турецком квартале и прислушиваться ко всем разговорам на рынках и в кофейнях. И он должен бывать на встречах, устраиваемых европейцами, чтобы собирать сведения обо всех интригах, что обычно плетут французы и итальянцы.
От мыслей об этом внутренности Авинаша стянуло узлом.
А что, если он не преуспеет в своем задании?
А вдруг он ни слова не поймет на тех языках, которым его столько обучали?
«Ты талантлив, настойчив и молод. И двух месяцев не пройдет, как ты будешь говорить лучше местных».
Это слова его учителя в Оксфорде.
«Сынок, мы выбрали тебя не просто так. Уж поверь нам. Ты создан для этого особенного задания».
Узел в животе и не думал ослабляться. От смуглых подмышек текли под шелковой рубашкой струйки пота. Бросив взгляд на безлюдную палубу, Авинаш оттянул ворот рубашки и быстренько принюхался. Во время всего путешествия он не ел ничего острого, и все равно от его кожи исходил легкий запах чеснока.
Его это обеспокоило.
Прежде всего нужно помыться.
Свесившись через ограждения, он посмотрел, что происходит внизу. Со всех сторон «Афродиту» окружили лодки – того и гляди выскочат пираты и попытаются захватить судно, – и на эти лодки уже начали грузить сундуки.
На берегу первым делом надо найти хаммам.
«Чтобы у тебя не возникло лишних проблем на таможне, на пристани Пасапорт тебя встретит наш человек. Но на большее не рассчитывай. Дальше придется самому. Так будет лучше. Как выйдешь из порта, иди к вокзалу Басмане, а потом на улице Куюмджулар спросишь, как найти постоялый двор „Иемишчизаде-Хан“. Затем жди от нас указаний».
Неприятные ощущения в животе, что испытывал Авинаш при мысли о новой жизни, которая для него вот-вот начнется в совершенно незнакомом городе, не шли ни в какое сравнение с той болью, от которой корчилась моя мать, родившаяся и выросшая в Измире. Схватки становились все сильнее, и она беспомощно стонала. Даже опиум больше не помогал. Ей казалось, что ребенок в ее утробе превратился в зверя и разрывает внутренности острыми когтями. Она медленно поднялась и, словно пьяная, неуклюжими, неровными шагами двинулась к двери комнаты, которая служила ей тюрьмой ровно три месяца одну неделю и пять дней. Опершись о дверь, она закричала, и ее вопль полетел из стеклянной башни вниз, в гостиную, где ждала с понуренной головой и полным мешочком денег в руках армянка-повитуха Мелине.
Напротив Мелине в обитом бархатом кресле сидела моя бабушка; не выпуская из рук кофейной чашки, она лишь приподняла голову, указывая своим тонким, острым подбородком на потолок.
Время пришло.
Так началась моя полная тайн жизнь, которой суждено продлиться целый век.
Бог счастливого мгновения
Люди, нарекшие меня Шахерезадой, нашли меня на рассвете в саду, утопающем в аромате жасмина. Я лежала без сознания под тутовником, словно бы приютившим меня, и волосы мои разметались среди его корней. На ногах под обгоревшей юбкой не осталось живого места: все были покрыты сочившимися кровью ожогами; однако на губах моих играла улыбка, не заметить которую было невозможно. Они подумали, что мне снится сладкий сон. И недоумевали – как я смогла попасть в сад через закрытую на засов калитку?
Я помню все.
Снова сентябрь. Зацвели акации, вот-вот откроются школы. Мне было семнадцать. Исполнилось как раз на прошлой неделе. Воздушный змей – красный, как и всё в ту ночь, – запутался в ветвях тутовника и трепыхался на ветру, дувшем с гор в сторону моря. Земля подо мной была мягкой, влажной, манящей. Ангелы касались пальцами моих щек. Вдалеке хлопнула дверь. Следом щелкнул затвор ружья. Сейчас эта двустволка разнесет мне голову. И пусть. В ту ночь все друг друга убивали. Море переполнилось трупами, раздувшимися, как мячи.
В те дни мы стали настолько близки со смертью, что страха перед ней уже не было.
Удивительной казалась сама жизнь.
Тут же перед глазами картинка: мальчики и девочки, чьи волосы похожи на водоросли, отчаянно барахтаются среди трупов, хватаются слабыми ручонками за цепи иностранных кораблей и тратят остатки воздуха в легких, умоляя спасти их. Как они цеплялись за жизнь! А у меня на это сил уже не было. Потратила до последней капли. Ничего не осталось.
Ребра безвольно коснулись земли. Я даже не попыталась что-то сказать.
А даже если бы и попыталась, ничего бы не вышло – тогда я этого еще не знала.
Выстрел – и я окажусь в раю.
Я закрыла глаза.
Вдалеке плакал ребенок.
Сквозь сомкнутые веки я видела женщину. Она стояла на палубе большого корабля. Шляпки на ней не было, голову оплетали две толстые косы, а нахмуренные брови скрывала челка. Позади стоял Авинаш Пиллаи, обнимал ее смуглыми руками за тонкую талию, крепко прижимал к груди. В волнах отражалось желто-оранжевое пламя; женщина плакала, положив голову на плечо Авинаша.
Звали ее Эдит София Ламарк.
Это была моя мать.
Но тогда я этого еще не знала.
Лишь многие годы спустя мне расскажет об этом Авинаш Пиллаи.
Эдит была младшей в семье Шарля Ламарка; родилась она в каменном особняке в районе Борновы, горы вокруг которой своими вершинами уходили в небесную синеву. Поместье было огромным. На склоне холма раскинулся сад с цветущими бугенвиллеями, камелиями и розами самых разных сортов, приветственно шелестели листвой вишневые и гранатовые деревья. Дальше начиналась кипарисовая роща, и все это место казалось Эдит настоящим раем.
В беззаботные дни Эдит устраивалась среди голубых, фиолетовых, розовых гортензий, посаженных еще ее дедом, – он трясся над цветами, как над внучками, – ложилась на спину и смотрела на облака. Верхом на одном из них мчался Кайрос, бог счастливого мгновения. Он был влюблен в Смирну, королеву амазонок и основательницу города, который потом получит название Измир. Каждый день он проплывал над городом на облаке и с лазурного небосвода приветствовал потомков прекрасной королевы. Справедливость и сила Смирны славились ничуть не меньше ее красоты. А в стрельбе из лука ей не было равных. Как было принято у амазонок, она отрезала себе правую грудь, чтобы та не мешала натягивать тетиву. Эдит представляла, как Смирна скачет по золотому песку побережья, как развеваются на ветру ее длинные черные волосы. И тогда она решила: если у нее когда-нибудь родится дочка, непременно назовет ее Смирной.
Иногда она убегала на огород, располагавшийся в той части сада, которая выходила к роще; там она зарывалась носом в зелень розмарина и тимьяна – их сажала прачка Сыдыка – и вдыхала теплую пыльцу, пока не начинала чихать.
В саду было множество плодовых деревьев. На виноградных шпалерах висели качели. Сиденье для них собственноручно выстругал в столярной мастерской ее отец, которому помогал управляющий Мустафа. А плетеные веревки были такие толстые – могли бы сравниться с канатами на кораблях в порту. Взлетая на качелях, Эдит ухитрялась срывать гроздья винограда – уж сколько сортов дедушка развел! – и, вопреки запрету матери, отправляла в рот немытые ягоды, пыльные, горячие от солнца и пьяняще-сладкие. (Дед ее, Луи Ламарк, после того как передал свое дело сыну, увлекся садоводством и все свое время посвящал разведению винограда.)
Прямо перед спальней Эдит рос тутовник, и плоды его можно было срывать с балкона. У изголовья кровати она сделала из листьев домик для шелкопрядов. Няня, родом из Бурсы, научила петь им колыбельные. Няня настаивала, что эти толстые гусеницы понимают только греческий язык, и что же – каждую ночь Эдит пела своим подопечным колыбельные, а с утра с волнением и страхом приподнимала листочки – живы ли? Прислуживавшие их семье девушки-гречанки в середине лета растягивали, держа за четыре конца, плотную ткань и просили маленькую Эдит потрясти ветки. Свесившись с балкона, она хваталась за ветки тонкими ручонками, и сочные белые ягоды со стуком падали на холст. Звуки эти напоминали шум летнего дождя.
Однажды она сорвала в саду еще неспелый инжир и увидела, что от него на руках остался белый сок, похожий на молоко, что текло из сосков кошки по кличке Гриша. Прачка Сыдыка объяснила, что белый сок – это кровь инжира и он нужен, чтобы плоды инжира наливались уже настоящим соком, как набухают молоком соски у кошки. Высокая и худая, с поблекшими голубыми глазами и светлыми, уже с проседью волосами, Сыдыка была родом с Крита. Никто никогда не видел ее без сигареты. Разговаривала она на таком греческом, который никто не понимал, кроме управляющего Мустафы, ее мужа. Эдит часто сбегала от гостей, которых любила приглашать ее мать, и укрывалась в домике Сыдыки на краю сада, где та угощала ее булочками с корицей и пирожками с зеленью.
Анна, сестра Эдит, Шарль-младший и Жан-Пьер, ее братья, по восемь месяцев в году проводили в школе-пансионате во Франции, но Эдит была из тех детей, которым никогда не бывает скучно, и она не знала недостатка в друзьях. В те годы Борнова звенела счастливыми детскими голосами. На закате, когда воздух пропитывал аромат мандаринов, дети гоняли по улицам на велосипедах, играли в прятки, играли со стеклянными шариками и всем тем, что попадалось под руку. Ждали отцов, которые возвращались с работы на вечернем поезде. Но еще больше ждали торговца халвой по имени Коста. Он жил в маленькой деревушке рядом с Борновой и каждый вечер, проходя по улице, угощал ребятню халвой из льняных семечек. А женщинам, которые посиживали на диванчиках перед своими домами и попивали кофе с мастикой, он предлагал кульки с орешками, рахат-лукум и другие сласти.
Самым близким другом Эдит был Эдвард Томас-Кук, живший по соседству. Вместе они залезали на железные калитки садов, охотились за привидениями в заброшенных домах, изображали из себя героев романов, которые почитывали, спрятавшись в тени, бесконечными летними послеобеденными часами. Семья у Эдварда была большая, и двум его старшим братьям внимания доставалось больше, еще больше – болезненной младшей сестре, а об Эдварде все как-то забывали. В доме у них всегда было полно родственников и гостей – «тетушек» и «дядюшек», как называл их Эдвард. Он отличался от других мальчишек. Вместо того чтобы играть в футбол, с большим удовольствием читал вместе с Эдит книги. И прочитал не только «Остров сокровищ» и «Приключения Тома Сойера», но и любимую книжку Эдит под названием «Маленькие женщины». И однажды, поддавшись на уговоры Эдит, которая восхищалась Джо, одной из героинь романа, Скрепя сердце собственными руками отрезал длинные косы подружки.
Был у Эдит и еще один друг – Шарль Ламарк, ее отец. Вообще-то, месье Ламарк по возрасту годился Эдит скорее в дедушки – может быть, именно поэтому отношения между ними были пронизаны особой нежностью. И наверное, по этой же причине, как часто жаловалась Джульетта, мать Эдит, Шарль так сильно разбаловал дочку. Когда наступал вечер и вот-вот должен был прибыть поезд, Эдит садилась возле обложенного камнями садового прудика, в котором плавали кувшинки и красные рыбки, и, опустив маленькую ладошку в воду, не отрываясь смотрела на калитку.
«Эдит, дорогая, к моему возвращению, будь добра, умойся и причешись. Я сказала няне, чтобы она приготовила тебе платье с голубыми ленточками. У нас сегодня гости. И я хочу видеть за столом твое веселое лицо» – все это произносилось на одном дыхании. Джульетта обычно торопилась к кому-нибудь из соседей и на бегу обращалась к дочери. Когда же Джульетта замолкала, ее светло-зеленые глаза на секунду задерживались на лице Эдит, как будто она ждала ответа. Но никакого ответа она не ждала, конечно. Черные глаза дочери как будто пугали ее, и между бровей пролегала глубокая складка. Эдит не исполнилось и двенадцати, когда у нее появилась точно такая же – к ужасу матери. Гостям, приходившим к ним на чай, она жаловалась: «Нет, вы только взгляните, Эдит-то и лет всего ничего, а лицо уже все в морщинках. Уж я ей говорю, чтобы она каждый вечер протиралась розовой водой, да и масло мирры не помешает, но она меня не слушает!»