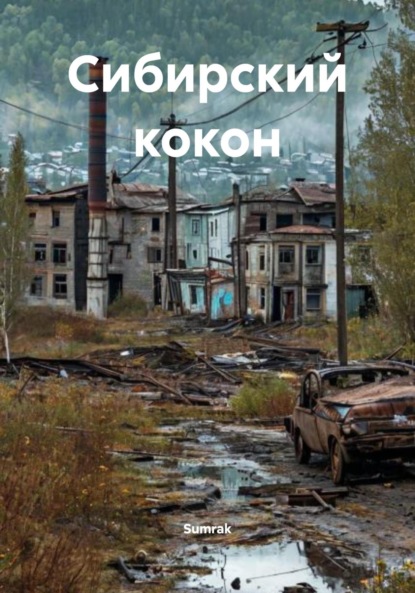- -
- 100%
- +
Бородач, один из самых отчаянных и безбашенных «Волков», которому, как он сам любил говорить, море было по колено, а черт не брат, решил, что всеобщая паника – лучшее время для «серьезного дела».
– Чего сидеть, штаны протирать да сопли на кулак наматывать? – басил он, обращаясь к Костястому, самому молодому, прыщавому и задиристому в их оставшейся компании. – Пока все по своим норам попрятались и от страха трясутся, мы живенько к «Рассвету» сгоняем. Может, Марфа со страху дверь не заперла. Да и тот камушек синий, что я в тайге нашел, на прошлой неделе куда-то провалился, не иначе, духи забрали. А то жрать охота – сил нет.
Костястый, отчаянно пытаясь скрыть нервную дрожь в коленках и казаться таким же крутым, как Бородач, охотно согласился. Ему до смерти хотелось доказать свою «крутость» перед старшими товарищами, особенно после недавних событий с Серым.
Переулок у магазина «Рассвет» встретил их непривычной, гнетущей, почти осязаемой тишиной. Сегодня здесь не было ни души – ни бабок, торгующих семечками, ни пьянчуг, клянчащих на опохмел. Дверь магазина была наглухо заперта изнутри на все засовы.
– Струсила, старая карга, – хмыкнул Бородач, дергая за ручку, но его обычная молодецкая бравада прозвучала на этот раз как-то неуверенно и фальшиво. Он беспокойно огляделся. Воздух казался плотным, тяжелым, словно перед грозой, хотя небо было затянуто ровной серой пеленой. Внезапно из-за покосившихся мусорных баков, заваленных гниющими пищевыми отбросами и тряпьем, донесся низкий, утробный, клокочущий рык, от которого у Костястого волосы на затылке встали дыбом.
Он вздрогнул и инстинктивно попятился.
– Что это, Бородач? Медведь-шатун?
Из тени, отбрасываемой стеной магазина, медленно, переставляя когтистые лапы, выступила она. Огромная, исхудавшая, почти до скелета, волчица. Ее серая, свалявшаяся шерсть местами вылезла клочьями, обнажая землисто-серого цвета кожу, на которой, словно уродливые, набухшие вены, проступали темные, маслянисто поблескивающие кристаллические прожилки. Эти отвратительные прожилки сходились к небольшому, но явно инородному, пульсирующему бугру на ее загривке – возможно, это было место внедрения того самого "агента биологической трансформации", о котором говорил голос из космоса. Из ее оскаленной, полной острых зубов пасти торчали неестественно длинные, зазубренные, как пила, клыки, покрытые тусклым, иссиня-черным металлическим налетом, который на свету искрился, как россыпь мелких, острых кристаллов. От нее исходил слабый, едва уловимый запах речной тины и гниющей рыбы, будто она недавно пила из отравленной Колымажки. Но страшнее всего были глаза – они горели лихорадочным, ядовито-желтым, немигающим огнем, в котором не было ни капли звериного разума или страха, лишь холодная, целенаправленная, нечеловеческая ярость. Ее движения были не звериными – плавными и инстинктивными, а резкими, выверенными, словно ею управлял не голод, а холодный, безошибочный алгоритм.
– Твою мать… – с трудом выдохнул Бородач, его рука сама собой потянулась к тяжелому охотничьему ножу за поясом. – Чума на нее напала, что ли? Или бешеная…
Волчица не выла, не рычала предупреждающе, как это делают обычные звери. Она просто, без всякого разбега, рванула вперед, как выпущенная из пращи каменюка, низко стелясь над землей и целясь прямо в горло Бородачу. Это была не атака голодного или защищающегося зверя, а выверенный, смертоносный бросок идеально отлаженной, бездушной машины для убийства, управляемой чужой, безжалостной, неземной волей. Бородачу на мгновение показалось, что в ее горящих желтым огнем глазах он видит не просто звериную ярость, а холодную, расчетливую ненависть и узнавание, направленное именно на них, людей, на "сопротивляющиеся элементы", о которых мог гласить ее внутренний приказ.
Бородач, хоть и был опытным и сильным мужиком, едва успел отшатнуться в сторону. Костястый, увидев этот кошмарный бросок, с тонким, девчоночьим визгом бросился наутек, спотыкаясь о собственные ноги и чуть не падая в лужу какой-то вонючей жижи. Волчица, совершенно проигнорировав его, снова нацелилась на Бородача. Он выставил вперед руку, пытаясь отбиться или схватить тварь за горло, и тут же почувствовал острую, жгучую, пронзающую боль. Когти твари, на концах которых, словно ядовитые шипы, затвердели и заострились кристаллические образования, покрытые какой-то темной, вязкой, ядовитой слизью, глубоко вспороли ему предплечье от локтя до самого запястья.
Грязно выругавшись от боли и ярости, Бородач со всей силы ударил мутантку своим тяжелым сапогом в бок. Волчица, пошатнувшись и издав короткий, скрежещущий визг, отскочила на пару шагов, но тут же, без малейшего промедления, приготовилась к новому прыжку. В этот момент из-за угла выскочили Дым и Бизон. Оценив новую угрозу, мутантка метнулась в сторону и скрылась в лабиринте заброшенных сараев так же внезапно, как и появилась.
Бородач стоял, тяжело покачиваясь и прижимая к себе разорванное, окровавленное предплечье. Кровь густо текла сквозь его пальцы, капая на грязный, замусоренный асфальт.
– Что… что это за тварь такая была? – прохрипел он, с ужасом глядя на свои окровавленные руки. Щеку, которую тварь тоже успела зацепить когтем, нестерпимо жгло, гораздо сильнее, чем от обычной царапины. Это жжение, это странное, ледяное онемение медленно, но неумолимо расползалось по лицу, вызывая тошноту и головокружение.
Костястый, бледный как полотно, с трудом поднялся на дрожащие, негнущиеся ноги, его трясло крупной дрожью.
– Я… я не знаю… Бородач… Она как… как неживая была… И глаза… эти желтые глаза…
Бородач посмотрел на свою рану. Она уже начала опухать на глазах, кожа вокруг стремительно приобретала какой-то нездоровый, багрово-синюшный оттенок.
Когда до стойбища дошли вести о нападении на "Волков" и о странной болезни Бородача, Аня собрала своих воинов. Лица их были мрачны.
– Эта волчица… она не была просто бешеной, – сказал Тускар, осматривая свое копье, которое он уже успел починить. – Я видел много хищников в тайге, но в ее глазах не было зверя. Только холод и приказ.
Заря, молодая травница, которая как раз вернулась с опушки леса с пустыми руками, добавила:
– Лес молчит, Аня. Птицы не поют, следы зверей исчезли, даже целебные травы, кажется, потеряли свою силу, их листья вянут и сохнут на корню. Только эти… светящиеся деревья, как тот кедр, что видел Буран, становятся все ярче. Словно их питает эта чужая болезнь.
Буран, сильный и молчаливый сибиряк-метис, лучший следопыт "Теней" после старого Улукиткана, подтвердил:
– Я ходил к тому кедру. Вокруг него земля выжжена, как от удара молнии, а в воздухе стоит запах озона и чего-то… металлического. И я нашел там следы. Не волка. Что-то тяжелое, с тремя когтями… похоже на те, что оставил тот рыбак-монстр у реки.
Гром, глухонемой силач, выразительно постучал себя кулаком по груди, а затем указал в сторону тайги, изображая хищника, который охотится не по голоду, а по чьей-то злой воле.
Аня посмотрела на своих людей. Их было немного, но каждый был готов стоять до конца. Страх был, но его пересиливала решимость защитить свой дом, своих близких. Она знала, что и "Волки" сейчас напуганы и растеряны. Возможно, пришло время забыть старую вражду.
– Мы должны быть готовы, – сказала она. – Эти твари будут нападать снова. И они будут сильнее. Нам нужно больше информации. И… нам нужны союзники. Даже если эти союзники – наши вчерашние враги.
Вечер.
К вечеру на лесопилке Бородачу стало совсем худо. Первичная обработка раны самогоном и табаком оказалась бесполезной. Рана превратилась в жуткий, раздувшийся отек. Кожа вокруг нее приобрела нездоровый, багрово-синюшный оттенок, стала горячей, как металл из горна, и твердой на ощупь. Его бил сильный озноб, несмотря на жарко натопленную печку-буржуйку. Он кутался в грязное одеяло, но его тело продолжало сотрясать крупная дрожь. Начался жар.
– Пить… – хрипел он, жадно хватая губами жестяную кружку с водой, которую ему подносил Костястый.
Сознание его начало мутнеть. Он то узнавал товарищей, то впадал в забытье, бормоча что-то бессвязное о желтых глазах и холодных когтях. Иван, сходив к медпункту, принес от Кати единственное, что у нее было в достатке – аспирин и анальгин. Лекарства не помогали.
Ночь.
Ближе к ночи состояние Бородача резко ухудшилось, знаменуя переход к следующей, еще более страшной стадии. Температура подскочила до критической отметки. Он сбросил с себя одеяло, его тело горело огнем. На багровой, лоснящейся от пота коже вокруг раны начали проступать мельчайшие, острые, как иголки, кристаллические частички. Они пробивались из-под кожи, словно наждачная бумага, вызывая у Бородача приступы невыносимой, ломящей боли.
– Оно… внутри… – простонал он в одну из редких минут просветления, с ужасом глядя на свою руку. – Кости… ломает… растет…
Затем из носа, а потом и из ушей, потекла густая, темная, почти черная, как деготь, слизь, в которой под светом лампы тускло мерцали микроскопические кристаллические частицы. Это был кремниевый некроз в действии – органическая ткань распадалась, замещаясь чужеродной структурой. Он начал бредить по-настоящему, метаться на своих нарах из старых досок, отталкивая тех, кто пытался его удержать. Он перестал узнавать товарищей, его глаза налились кровью и безумием. В одну из редких, мучительных минут просветления он схватил Ивана за рукав, его глаза на мгновение стали осмысленными. «Вань… не дай им…» – прохрипел он, прежде чем его взгляд снова затуманился безумием, и он с рычанием оттолкнул друга.
– Желтые глаза… они смотрят… они везде… в стенах, в потолке… они лезут из-под земли! – бормотал он, его голос срывался на дикий, булькающий хрип. – Не трогайте меня! Когти… когти из черного железа… они хотят вырвать мне сердце! Заменить!
Остальные «Волки» молча и с первобытным оцепенением смотрели на мучения своего товарища. Это была не обычная болезнь, не гангрена. Это было нечто новое, чужое и смертельно опасное. Ледяное предчувствие беды пробиралось под их рваные куртки, заставляя сердца сжиматься. Аномалии больше не были слухами. Они были здесь, среди них, и они начали собирать свою кровавую дань.
Иван сжал кулаки. Бессилие и ярость душили его.
– Тихий, Бизон, Лис! – его голос прозвучал хрипло, но твердо. – Хватит сопли жевать! Бородачу мы уже вряд ли поможем, но должны защитить остальных. Тихий, твоя задача – попытаться что-то узнать об этих тварях. Бизон, Лис – вы со мной. Утром идем на разведку. Костястый, ты остаешься здесь, следи за огнем. Если что – поднимай тревогу.
Его слова не вселяли надежды, но вернули парням подобие цели, вырвали их из оцепенения страха. Они привыкли действовать, а не ждать смерти.
Они понимали, что Бородач, скорее всего, не дотянет до утра. Но худшее было еще впереди, и рассвет должен был принести не облегчение, а новый, невиданный доселе ужас.
Глава 25: Оранжевое небо, ледяное лето
Холод пришел не сразу. Он начал подкрадываться еще ночью – сначала как необычная для июля зябкость, заставившая людей плотнее кутаться в одеяла, списав все на странный северный ветер. К рассвету на траве выпал иней, а оконные стекла покрылись тонкой ледяной вязью. А когда солнце взошло, оно было уже не солнцем, а тусклым, ржавым диском в больном, грязно-оранжевом небе. Вот тогда температура и рухнула, опустившись за несколько утренних часов с прохладных плюс десяти до шокирующих минус пяти.
Вместе с холодом пришел гул.
Воздух загустел, стал плотным, вибрирующим. Это был не столько звук, который можно было услышать, сколько ощущение, проникавшее сквозь одежду и кожу прямо в тело – как глухое, ноющее давление в костях и зудящая вибрация в основании черепа. Он вызывал подспудную тошноту, головную боль и иррациональную, животную тревогу, которая выгнала людей из их стремительно промерзающих домов.
Первым на улицы высыпал страх. Сначала робкий, вопрошающий – люди выходили на крыльцо, испуганно перешептываясь с соседями, недоверчиво глядя на термометры и на чужое, враждебное небо. Затем, когда пришло осознание, что это не просто погодная аномалия, страх перерос в панику.
Небольшая, но агрессивная толпа собралась у здания городской администрации, выкрикивая проклятия и отчаянные требования. Но они наткнулись лишь на запертые двери и темные окна. Внутри, в кабинете мэра, на столе валялись разбросанные бумаги и недопитая бутылка дорогого коньяка – единственное, что осталось от сбежавшей власти. У магазина «Рассвет» молодая мать в слезах пыталась обменять свои последние золотые серьги на старую зимнюю куртку для своего синего от холода ребенка, но Марфа лишь бессильно качала головой – еда стала последней и единственной валютой в этом новом мире, и у нее самой почти ничего не осталось.
К утру пришло и осознание полной, абсолютной изоляции. Радиоприемники, еще вчера ловившие сквозь помехи обрывки музыки, сегодня молчали мертвой тишиной. Экраны телевизоров шипели серым, безжизненным снегом. Стационарные телефоны были мертвы – в трубках стояла абсолютная, звенящая, пугающая тишина.
В своем углу на лесопилке Тихий, перебрав все свои самодельные антенны и усилители, с отчаянием первооткрывателя констатировал – радиоэфир был мертв. Никаких передач, никакой музыки, никаких новостей – только пустота. Однако его верный, видавший виды транзистор «Спидола» улавливал нечто иное. Это был не радиосигнал, а скорее прямой физический эффект от Кокона: монотонный, низкий, вибрирующий гул на частоте 145.32 Герца. Этот звук почти не воспринимался ушами; он ощущался всем телом, вызывая подспудную тревогу и предчувствие неотвратимой беды.
– Иван, смотри, – Тихий указал на самодельный термометр, прикрепленный к оконной раме. Стрелка замерла на отметке минус пять. – Этот гул… и этот холод… они явно связаны. Похоже, эта дрянь, что нас накрыла, не просто барьер. Она поглощает тепловую энергию для своего поддержания, высасывает ее из воздуха, из земли… Мы тут скоро все в ледышки превратимся, если не найдем способ согреться. Дров почти не осталось, а то, что есть, отсырело.
Тем временем на эвенкийском стойбище Аня вышла из своего чума и замерла, кутаясь в оленью доху. Оранжевое небо давило на нее, вызывая безотчетную, сосущую тревогу и тошноту. Бабушка-шаманка стояла неподвижно, как изваяние, у священного коновязя, глядя на восток, ее морщинистое, темное лицо было суровым и отрешенным.
– Небо гневается, дитя мое, – прошептала она, не оборачиваясь, и ее голос был похож на шелест сухих листьев. – Или плачет огненными слезами. Духи великой тайги затаились, они боятся того, что идет к нам с небес. Эта пелена… она крадет тепло жизни у нашей земли. Даже огонь в очаге сегодня горит неохотно, словно его душит этот ледяной воздух. Я чувствую, как замерзает дыхание леса, как стынет кровь в жилах всего живого. Это не природный холод, это ледяное дыхание чужого мира. Вчера я ходила к нашему священному источнику у подножия Медвежьей сопки – вода в нем, всегда кристально чистая и теплая, помутнела и покрылась маслянистой пленкой, а камни-обереги, что лежали там веками, растрескались, словно от внутреннего жара. Духи пытались говорить со мной, но их голоса были слабы, искажены… они показывали мне лишь боль, страдание и огромную, холодную тень, ползущую с небес.
Весть о ледяном лете и странном небе быстро разнеслась по всему Колымажску, сея панику и отчаяние. С каждым утренним часом, по мере того как оранжевое марево становилось все гуще, а холод – все более лютым, температура продолжала стремительно, неестественно падать. Послышался резкий, сухой треск – у старенького "Москвича", брошенного у магазина, от аномального мороза лопнул аккумулятор, выплеснув на мерзлую землю застывающий на лету электролит. Ртутный столбик на облезлом, покрытом ржавчиной термометре, висевшем у входа в магазин «Рассвет», показывал минус пять градусов по Цельсию. Марфа, пытаясь разжечь проржавевшую печку-буржуйку в своем магазине, чтобы хоть как-то согреться самой и не дать замерзнуть последним банкам с консервами, с ужасом смотрела, как тонкая, радужная ледяная корочка затягивает грязные лужи на разбитой дороге перед магазином. Люди, выбегавшие из своих холодных домов по неотложным делам, лихорадочно доставали из пыльных сундуков и антресолей зимние шапки-ушанки, валенки и толстые шерстяные носки. Изо рта у всех шел густой пар. Дети, которых родители по привычке, но с тяжелым сердцем отправили в школьный летний лагерь, в надежде, что там будет хоть какое-то тепло и еда, брели по обледенелым улицам, как маленькие, испуганные капустные кочаны, закутанные в платки, шарфы и старые родительские свитера. Особенно тяжело этот странный, давящий гул и внезапный холод переносили дети. Они становились капризными, плаксивыми, жаловались на то, что "голова бо-бо" или что "в ушах кто-то сильно стучит". У некоторых, самых чувствительных, из носа тонкими струйками начинала сочиться кровь – лопнувшие от постоянной вибрации капилляры. Некоторые из них, самые маленькие и чувствительные, начинали слышать странные "голоса" или "шепот", которых не слышали взрослые, и испуганно показывали пальцами в пустоту.
В самой работающей школе, которая превратилась в импровизированный пункт сбора для окрестных жителей, царил холод и растерянность. Аркадий Степанович, директор школы, бывший фронтовик с железной волей, в своем маленьком, холодном кабинете тщетно пытался успокоить двух перепуганных до смерти учительниц – Елену Матвеевну, которая вела пришкольный летний лагерь, и молоденькую практикантку из педучилища, помогавшую ей.
– Да что вы паникуете, милые мои, Матвеевна, Петровна? Может, антициклон какой… аномальный. Бывает в наших краях. Помню, в сорок седьмом…
Но голос его звучал неуверенно, а в глазах застыла тревога. Он тоже никогда не видел такого жуткого, ледяного лета за всю свою долгую жизнь. Печное отопление в старом здании не справлялось с таким резким похолоданием, дрова стремительно заканчивались. В коридоре школы стоял непрекращающийся гул – это родители, прибежавшие забирать своих детей из летнего лагеря, испуганно перешептывались, делясь самыми невероятными слухами и домыслами. Вода в Колымажке, у самого моста, где еще вчера утром текли свободные, хоть и мутные, струи, теперь покрылась толстым, неподвижным слоем грязно-желтого, пузырчатого льда, из-под которого доносился глухой, утробный, почти живой гул, словно сама река стонала от невыносимой боли.
Особенно тяжело этот странный, давящий гул и внезапный холод переносили дети, пришедшие утром в школьный лагерь в легких летних одеждах и теперь кутавшиеся во что попало. Они становились капризными, плаксивыми, жаловались на то, что "голова бо-бо" или что "в ушах кто-то сильно стучит". Это было хуже, чем вчерашние жалобы на 'голоса' – теперь чужие мысли были не просто шепотом, а криком. У некоторых, самых чувствительных, из носа тонкими струйками начинала сочиться кровь – лопнувшие от постоянной вибрации капилляры. Елена Матвеевна, пытаясь сохранить подобие порядка, собрала оставшихся детей из летнего лагеря в самом теплом классе. Здесь разворачивалась своя, тихая трагедия.
Она с ужасом и состраданием наблюдала за маленькой, обычно тихой и послушной девочкой из младшей группы лагеря, Машенькой Ивановой, которая вдруг, без видимой причины, начала громко плакать и отчаянно отвечать на мысли своей растерянной мамы, еще до того, как та успевала их произнести вслух.
– Мама, я не хочу домой, там очень страшно, ты же сама сильно боишься этого оранжевого неба и дяденек в черном, которые ходят по улицам! – рыдала девочка, цепляясь за материнскую юбку, хотя ее мама лишь молча и испуганно обнимала ее, стараясь успокоить.
А другой мальчик, шустрый Петя Сидоров, забился под парту, зажимая уши ладонями.
– Они кричат! Все кричат прямо в голове! – всхлипывал он. – Мысли… чужие, злые… они как разбитое зеркало, режут мозг!
Елена Матвеевна поняла, что он слышит не голоса, а хор панических мыслей всех взрослых, собравшихся в коридоре. Некоторые дети начинали слышать странные "голоса" или навязчивый "шепот", которых не слышали большинство взрослых, и испуганно показывали пальцами в пустоту, утверждая, что там кто-то стоит и смотрит на них. Учителя и родители были в отчаянии, не понимая, что происходит с их детьми, и списывая все на массовую истерию и последствия внезапного похолодания.
Елену Матвеевну охватил ледяной ужас. Это была не массовая истерия, не игра воображения. Дети действительно слышали.
Это был не просто хаотичный фон чужих мыслей. Это был целенаправленный, холодный шёпот «Архива» – пси-генератора под старой школой, который начал свою отвратительную настройку, используя самые восприимчивые умы детей как чувствительные камертоны. Маленький мальчик, сын кладовщика Павла, вдруг ткнул пальцем в угрюмого соседа Игоря и громко, на весь класс, выпалил: «Папа думает, что ты вор и не отдашь ему деньги!» Павел побледнел, Игорь побагровел от ярости, готовый броситься на соседа с кулаками. Кокон не просто пугал – он срывал маски, вытаскивал на свет постыдные тайны и разрушал остатки человеческих связей.
В отчаянной, почти инстинктивной попытке заглушить этот ментальный хаос своим голосом, она начала читать вслух первое, что пришло на ум, – Пушкина. И тут же заметила невероятное: ритмичная, гармоничная речь словно создавала вокруг детей хрупкий звуковой кокон, на мгновение оттесняя чужие, рваные мысли. «Может быть, поэзия… гармония слова… это тоже своего рода оберег?» – с отчаянной надеждой подумала она, продолжая читать, несмотря на ледяной холод в классе и собственное, почти паническое состояние.
К полудню не только холод сковал город, но и информационная блокада стала абсолютной. Все радиостанции, даже самые мощные, транслировавшие на дальние расстояния, замолчали окончательно. Телевизоры, которые и раньше-то показывали с большими помехами всего два канала, теперь шипели и рябили лишь серым, безжизненным «снегом». Стационарные телефоны в квартирах и учреждениях были мертвы – в трубках стояла абсолютная, звенящая, пугающая тишина. Попытки дозвониться в райцентр, в область, да хоть куда-нибудь – обрывались, даже не начавшись, словно город накрыли невидимым, звуконепроницаемым колпаком.
Тихий на лесопилке, перебрав все свои самодельные антенны, модифицированные приемники и усилители, с отчаянием и какой-то злой радостью первооткрывателя констатировал – эфир абсолютно пуст. Работал только его верный, видавший виды транзистор «Спидола», но и он теперь улавливал не радиосигнал, а скорее прямой физический эффект от Кокона: монотонный, низкий, вибрирующий гул на частоте 145.32 Герца. Этот звук почти не воспринимался ушами; он ощущался всем телом, каждой клеткой – как глухое, ноющее давление в костях и зудящая вибрация в основании черепа, вызывая подспудную тревогу и предчувствие беды, которое у особо чувствительных людей быстро переходило в настоящую, безудержную панику. Именно этот гул, как понял Тихий, заставлял кости ныть и словно вибрировать изнутри, а у некоторых вызывал легкие, но очень неприятные слуховые галлюцинации.
В отделении милиции участковый Горохов безуспешно, до хруста в пальцах, крутил ручку настройки старой, еще ламповой армейской радиостанции. Молодой милиционер Марк, стоявший рядом у окна, мрачно смотрел на омерзительное оранжевое небо.
– Всё, Степаныч, отрезали, – глухо констатировал он. – Как топором. Окончательно.
Осознание полной, абсолютной изоляции от внешнего мира медленно, но неотвратимо, как ядовитый туман, расползалось по городу, сея панику, отчаяние и первобытный, животный ужас.
Отчаяние гнало людей из их промерзших домов. Именно тогда, в середине этого безумного утра, начались первые отчаянные, самоубийственные попытки прорваться из города. Несколько самых отчаянных или просто не верящих в происходящее семей в панике погрузили свой скудный, нажитый годами скарб в старенькие, дребезжащие «Жигули» и «Москвичи» и рванули прочь из проклятого города – кто в сторону далекого Якутска, кто к заброшенным зимникам, в надежде прорваться через тайгу к хоть какой-то цивилизации. Из окна одного "Москвича" испуганно мяукал зажатый в руках старой женщины облезлый кот. Другой мужчина, перед тем как сесть за руль, долго стоял и смотрел назад, в сторону небольшого кладбища на холме, словно прощаясь с могилами родных, которые он вынужден был бросить. Но их отчаянные попытки были тщетны. На выезде из Колымажска, примерно в одном и том же месте на каждой из трех ведущих из города дорог, машины начинали чихать, кашлять, двигатели глохли и больше не заводились, сколько бы их ни крутили стартером. Водители, вылезавшие из машин и пытавшиеся понять причину поломки, чувствовали странное, нарастающее давление в висках, сильное головокружение, тошноту, будто их мягко, но очень настойчиво и неотвратимо отталкивала какая-то невидимая, упругая сила. Те немногие, кто пробовал пройти дальше пешком, натыкались на такой же невидимый, но совершенно реальный барьер – воздух перед ними становился плотным, почти осязаемым, дышать было практически невозможно, ноги наливались свинцовой тяжестью, а в глазах темнело. Дальше определенной, невидимой черты пройти было невозможно.