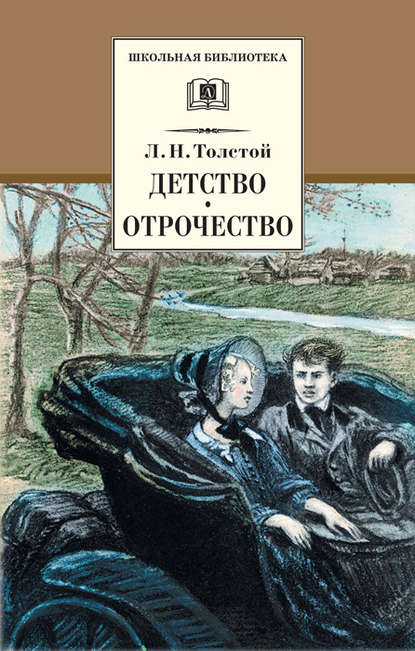Искусство быть собой

- -
- 100%
- +
Его тон был пренебрежительным, равнодушным. Он щелкнул папкой, демонстрируя ряд абстрактных, нарочито мрачных полотен.
Он говорил, а она лишь кивала, с трудом сосредотачиваясь
И в этот момент ее левая бровь сама собой поползла вверх. Холодный, испытующий взгляд, который она час назад видела в зеркале, теперь был направлен на Артема.
«В нашей галерее?» – закипело у нее внутри. «Что значит «НАШЕЙ»? Это МОЯ галерея. Мой стол. Мой вид из окна. Мое решение – что вешать на эти стены и кого допускать в это пространство. Я здесь хозяйка. А вы все здесь – никто. И звать вас никак. Вы – инструменты. Красивые, ухоженные, но инструменты».
Она медленно вытянула руку и прикрыла ладонью папку с работами художника.
– Артем, – ее голос прозвучал тихо, но с такой сталью, что он мгновенно замолчал и выпрямился. – Прекрати. «Наша» галерея заканчивается ровно за дверью этого кабинета. Все, что внутри – исключительно мое. И мой вкус, вопреки твоим предположениям, еще никто не отменял. Оставь папку. Я сама решу, что там серость, а что – искусство.
Она откинулась на спинку кресла, держа его в поле зрения. В воздухе повисло напряженное молчание, но в нем уже не было ее прежней растерянности. В нем была власть.
И вот тут в ней что-то щелкнуло. Тихий, почти неслышный звук сломавшейся внутри перемычки. И ее сознание, до этого метавшееся между двумя реальностями, вдруг обрушилось в одну-единственную, самую яркую и самую ядовитую.
Она не заметила, как ее пальцы сжались в кулаки, впиваясь в полированную поверхность стола. Она не осознавала, как голос, еще минуту назад звучавший стально и холодно, теперь сорвался на пронзительный, почти истеричный фальцет.
– Довольно! – вырвалось у нее, и она резко встала, смахивая со стола образцы материалов. Плитки и кусочки тканей полетели на пол с сухим стуком. – Я САМА разберусь с этими безвкусными лоскутами. Я все знаю лучше. Это Я на вершине, это МОЙ мир, и вы все здесь лишь для того, чтобы прислуживать мне. Вы ничего не понимаете в гениальности. Только МОЙ взгляд решает, что будет висеть на этих стенах. Мне не нужны ваши жалкие, ничтожные мнения.
Ее дыхание стало прерывистым, глаза горели лихорадочным блеском. Она повернулась к папке с работами художника, ее лицо исказилось гримасой брезгливого презрения.
– А это что? – она с силой швырнула папку на пол, и листы разлетелись по кабинету белыми птицами. – Эта бездарность, это ничтожество. Он должен молиться на том месте, где я стою. Он должен ползать на коленях и умолять меня взять эту жалкую, убогую мазню. А он присылает мне ЭТО?! Эти бледные пародии на искусство? Эти жалкие потуги?
Она кричала, жестикулируя так резко, что чуть не опрокинула напольную вазу. В ее висках стучало, сердце бешено колотилось. Она уже не думала, не анализировала. Она не делила себя на «ту» Веронику и «эту». «Та» Вероника, серая и забитая, была стерта, сметена этим ураганом ярости и мании величия. Ее сознание было полностью, без остатка, поглощено глянцевым чудовищем, которым она стала – властной, сумасбродной, не видящей ни в ком личностей, а лишь инструменты для своего величия.
Она была больше не женщиной. Она была воплощенным гневом этого нового мира, его темной, самовлюбленной императрицей. И в этот момент ей это нравилось.
И вдруг ее взгляд упал на собственную кисть. На безымянном пальце правой руки все так же было надето бабушкио кольцо. Но это был не тот жалкий, бледный перстень. Золото сияло густым, ярким блеском, безупречно гладкое, без единой царапины. А камень – рубин был насыщенным, темно-бордовым, почти черным в глубине, и в нем поймал отсвет тот самый властный, яростный огонь, что горел в ее глазах. Это было не украшение. Это была печать. Символ ее власти в этом мире.
И в самый пик этой ослепляющей ярости, сквозь ее собственный крик, пробился другой звук – пронзительный, визгливый, до боли знакомый. Звук будильника из дешевого пластика.
Нет.
Мысль, острая и холодная, как лезвие, пронзила ее гнев. Сознание, захлебывавшееся в мании величия, дрогнуло. Она почувствовала, как мир вокруг поплыл, заколебался, как мираж. Ее собственная тирада стала доноситься до нее будто сквозь толстое стекло – искаженной и медленной.
«Не сейчас. Дай мне еще минуту. Я почти…»
Она изо всех сил попыталась ухватиться за ускользающую реальность, за ощущение холодного мрамора под пальцами, за бархатный голос Артема, за тяжесть кольца на руке. Но ее выдергивали. Словно за крюк, вонзенный в самое нутро.
Она судорожно зажмурилась, пытаясь удержать глянцевый сон, и резко открыла глаза.
Тишина. Не та, звенящая и могущественная, а глухая, давящая тишина спального района за окном. И запах. Не кофе и кожи, а пыли и старой краски. Она лежала не в кровати-платформе, а на своей продавленной половине кровати.
Все еще в плену адреналина и ярости, она сжала кулаки, готовая сокрушать врагов и вершить судьбы. Но врагов не было. Была лишь серая заря за запыленным стеклом, предвещающая новый, бесконечный день сурка. И это осознание – стремительное, неотвратимое падение с вершины мира обратно в яму – ударило с такой силой, что из груди вырвался тихий, бессильный стон. Эйфория сменилась таким всепоглощающим чувством потери, что все внутри просто оборвалось и опустело.
Она произнесла про себя, с горькой, натренированной покорностью: «Ну, привет, новый день. Привет, день сурка. Опять мы с тобой. Вдвоем. В нашем уютном, беспроглядном одиночестве».
Фраза сорвалась привычно, как заученная мантра отчаяния. Серый и убогий. Эти слова должны были стать финальной точкой, похоронным звоном по еще не начавшемуся дню. Но что-то внутри упрямо отказывалось подчиняться.
Сквозь горечь и бессилие пробивался настойчивый, чужой голос – ее собственный, но из другого измерения. Воспоминание о тяжести кольца на пальце. Облик женщины в зеркале, с горящими глазами, которая брала то, что хотела. Ощущение свободы, пахнущей кожей и кофе.
И последней, самой крамольной мыслью, которую она уже не могла загнать обратно, стало простое, пугающее признание:
«Но ведь понравилось. Мне понравилось быть ею».
И этот шепот, прозвучавший в глубине ее израненной души, был страшнее любого утреннего крика. Потому что он означал, что игра в покорность закончена. Трещина прошла не только по потолку. Она прошла по ее миру. И обратной дороги уже не было.
Глава 4. Хитрая лиса
Отчаяние было тягучим и липким, как патока. Оно накрыло ее с головой, едва она открыла глаза в своей реальности – реальности, где потолок был в трещинах, а не в стиле хай-тек. Она лежала, пытаясь вцепиться в обрывки того сна, того мира. Это было настолько ярко, так осязаемо… Запах кожи, вкус кофе, холод стекла и та власть, что пульсировала в жилах. «Привиделось? – тупо спрашивала она себя. – Или это и была настоящая реальность, а все это… это – сон?»
На автопилоте она побрела в ванную. Рука сама потянулась к крану, а глаза упали на правую руку. На безымянном пальце все так же сидел бабушкин перстень.
Он был таким, каким и оставался – потертым, кривоватым, с бледно-розовым, почти больным камешком, мутным и безжизненным.
И тут ее осенило. Четкая, как удар молнии, аналогия.
«В этом мире я – бледная, – подумала она, глядя на свое уставшее отражение. – Помятая, неказистая, выцветшая, как это кольцо. Я ношу свою усталость, как это тусклое кольцо. А там…»
Она зажмурилась, снова увидев тот, глянцевый вариант. Тот перстень был тяжелым, идеально гладким, а его рубин – густым, темным, почти черным, словно вобравшим в себя всю ее ярость, силу и власть.
«А там я была властительницей. Яркой. Сильной. И кольцо мое было моей печатью. Оно отражало меня. А это отражает ту, в кого я превратилась здесь».
Она резко сняла кольцо и сжала его в кулаке. Холодный металл впивался в ладонь. Это было не просто пробуждение. Это было прозрение. Серая реальность вдруг обрела четкие, жесткие границы, и находиться в них стало невыносимо. Потому что теперь она знала – где-то существует другая Вероника. И та Вероника не смирилась бы.
Она решила действовать. Конечно, не с той безумной, сокрушающей все на своем пути уверенностью, с какой это сделала бы Вероника из мира глянца. Та просто взяла бы и перекроила реальность под себя. Здесь же, в мире трещин на потолке, приходилось считаться с другими законами – законом инерции, законом привычки и законом всепоглощающей усталости.
Но что-то менять надо было. Начать решила с главного. С себя.
Умывшись, она не просто вытерла лицо, как делала это всегда. Она достала с дальней полки косметичку, в которой пылились купленные когда-то и благополучно забытые тюбики и карандаши. Немного тонального крема, чтобы скрыть синеву под глазами. Подводка – дрогнула рука, получилась не идеально ровная стрелка, но она все же была. Тушь для ресниц, от которой взгляд стал глубже, собраннее.
Она посмотрела на свое отражение. Женщина в зеркале все еще была уставшей, но теперь в ее глазах читалась не просто покорность, а тихий, едва уловимый вызов.
«Ну что ж, – мысленно сказала она своему отражению, и уголки ее губ дрогнули в намеке на улыбку. – Может, ты и не тигрица еще, Вероника. Не царица, не властительница. Но на лисичку уже похожа. Будем хитрить. Будем обманывать эту «панду» – нашу серую, унылую жизнь. И потихоньку, шаг за шагом, убежим от него».
Этот образ – хитрая лиса – почему-то придал ей сил. Это была не открытая война, которую она бы тут же проиграла. Это была партизанская тактика. И она только что сделала свой первый, крошечный выстрел. В зеркале на нее смотрела не жертва, а диверсант, внедренный в собственную жизнь.
Казалось, утреннее решение «хитрить» наполнило ее легкой, почти забытой энергией. Разбудив всех, она приготовила завтрак почти с вдохновением, а не с привычным чувством долга. И когда семья в своем обычном молчаливом ритуале уселась за стол, ей вдруг страшно захотелось поделиться. Выпустить наружу этот странный, яркий сон, который казался ей теперь не сном, а частью самой себя.
– А знаете, мне сегодня такой сон приснился, – начала она, и голос ее прозвучал непривычно оживленно. – Будто я совсем другая. Я живу в другом мире, в огромной квартире, у меня своя галерея, и я там все решаю. Я сильная. И бесстрашная.
Она посмотрела на Дмитрия с надеждой, ища в его глазах хоть искру интереса. Но он, не отрываясь от телефона, пробормотал:
– Фантазии у тебя. Кофе остывает.
Он даже не заметил наспех нанесенного макияжа, что Веронику совсем не удивило.
Ее взгляд метнулся к Алисе, но та демонстративно уткнулась в свой смартфон, ее поза кричала громче любых слов: «После вчерашнего я с тобой не разговариваю».
– А я во сне летал на ракете! – поделился Марк, но его тут же поглотила тарелка с кашей.
И все. Портал в другой мир захлопнулся, даже не успев открыться. Энтузиазм внутри нее лопнул, как мыльный пузырь, оставив после себя лишь горьковатую влагу. Они поели, поднялись из-за стола, не поблагодарив, и разбрелись – кто на работу, кто в соцсети, кто к игрушкам.
Она осталась одна. С горами грязной посуды, с крошками на столе и с давящей, невысказанной горечью внутри. Ее первый порыв к изменениям разбился о стену их равнодушия. Казалось, все должно было вернуться на круги своя. Но, протирая тарелку, она поймала себя на мысли: вчера эта тихая ярость заставила бы ее плакать. Сегодня – она лишь сильнее сжала губку.
«Ладно, – подумала она, глядя на свое отражение в темном экране выключенного телевизора. – Не хотите слушать про мои сны? Хорошо. Может, скоро вам придется иметь дело с моей новой реальностью».
И это была уже не надежда. Это было предчувствие.
Сегодня у Марка, к ее тихой, почти крадущейся радости, не было дополнительных занятий. Не нужно было мчаться на другой конец города, толкаться в автобусе и чувствовать себя загнанной лошадью. Это был крошечный подарок судьбы.
Утренние сборы прошли в привычном хаосе, но с одним отличием.
– Алиса, ты проводишь Марка, – сказала Вероника, протягивая дочери рюкзак. – И забери его после уроков.
– Ма-ам, – заныла Алиса, закатывая глаза с таким драматизмом, будто ее просили пересечь пустыню, а не пройти пятьсот метров.
– В школе у вас одинаковое расписание, – парировала Вероника с неожиданным для себя спокойствием. – Иди и смотри за братом.
Алиса что-то буркнула, но, к удивлению Вероники, послушно взяла Марка за руку. Смотреть, как они идут вместе – старшая, вся в своем подростковом протесте, и младший, доверчиво семенящий рядом, – было странно трогательно. В этом крошечном эпизоде была капля нормальности, которой так не хватало.
Дмитрий прилал сообщение: «Меня не жди к ужину. Совещание. Буду поздно».
Он не сказал «извини» или «не беспокойся». Просто констатация факта, вывешенная на дверь, как объявление.
Дверь захлопнулась. И наступила тишина.
Не просто отсутствие звуков. А та особая, гулкая тишина пустого дома, который только что был полон жизнью, пусть и сложной, и неприятной. Теперь в нем осталась только она. Пылинки танцевали в луче света, пробивавшемся сквозь окно. Стояла немытая посуда, валялась брошенная кем-то кофта.
Она обвела взглядом кухню – эту знакомую до боли территорию своего поражения. Но сегодня что-то было иначе. Сегодня эта тишина и это одиночество не давили. Они звали. Они были пространством, временем и возможностью.
Она медленно подошла к столу, провела рукой по его прохладной поверхности. Главный вопрос, который ждал своего часа, наконец, вырвался наружу, ясный и неумолимый:
«Как мне вернуться туда?»
Ей не просто хотелось. Ей нужно было снова ощутить ту власть, то головокружительное чувство свободы, когда мир был не клеткой, а игровым полем. Глянцевый мир был не просто сном. Он был лекарством. И она уже знала, что одной дозы ей будет мало.
Вероника стояла посреди тихой кухни, и кусочки мозаики вдруг сложились в голове в единую, пусть и безумную, картину. Ключом было кольцо. Оно было единственным, что связывало два мира. В ее серой реальности – бледное и уродливое, точь-в-точь как она сама. В мире глянца – сияющее и могущественное, как и его хозяйка. Оно было не просто украшением. Оно было зеркалом.
И переход случился во сне. Она уснула здесь, в отчаянии, а проснулась – там, у власти. Значит, сон был порталом. Пока ее тело спит в одной реальности, сознание живет в другой.
Решение созрело мгновенно, с ясностью маниакальной догадки. Она почти побежала в спальню, схватила телефон и завела будильник так, чтобы проснуться за полчаса до прихода детей из школы. Этого должно было хватить. Потом она устроилась поудобнее, нарочно не снимая кольца.
«Если это и не сработает, – подумала она, глядя на потертый розовый камень, – я все равно не расстанусь с тобой».
Отныне этот кусок старого золота будет ее талисманом. Напоминанием. Зримым доказательством того, что где-то существует другая Вероника – сильная, яркая, властная. И эта Вероника – тоже она.
Она закрыла глаза, мысленно вцепившись в образ глянцевого перстня – тяжелого, с темным, как ночь, рубином. Она концентрировалась на ощущении власти, на вкусе дорогого кофе, на звуке бархатного голоса Артема.
И стала ждать. Ждать возвращения домой. В тот единственный мир, где она чувствовала себя по-настоящему живой.
Вероника проворочалась два часа, ее тело было скованно, а разум – лихорадочно активен. Воспоминания накатывали флешбэками, такими яркими, что казалось, вот-вот и реальность дрогнет. Она уже почти чувствовала на языке тот самый, густой и бархатистый, с нотами шоколада и специй, вкус кофе. Ей чудился в воздухе тот самый коктейль ароматов – бергамота, дорогой кожи и чего-то цитрусового, что наполнял тот, глянцевый дом.
В какие-то секунды ей казалось, что она уже почти там. Она зажмуривалась сильнее, концентрировалась, и ей чудилось, будто матрас под ней становится жестче, а простыни – прохладнее и шелковистее. Она мысленно тянулась к этому миру, как утопающий к глотку воздуха.
Но стоило ей открыть глаза – и она снова видела потрескавшийся потолок, слышала за окном гул неинтересной ей жизни и понимала: ничего не изменилось. Отчаявшись, она поднялась и наглухо задернула все шторы, устроив в спальне полный блэкаут, искусственную ночь, надеясь, что темнота поможет обмануть реальность.
И она все-таки провалилась в короткий, тяжелый сон. Но это был просто сон – бессвязный и пустой.
Резкий, визгливый звук будильника вырвал ее из забытья всего через пятнадцать минут. Она лежала, осознавая: перехода не было. Ни на секунду. Ее сознание так и не покидало эту продавленную кровать.
Разочарование накатило такой тяжелой, свинцовой волной, что она с трудом сглотнула ком в горле. Она все делала не так. Но что? В чем секрет? Она так отчаянно хотела вырваться, хоть на час, хоть на полчаса. Ей было не нужно кричать и руководить. Ей просто хотелось снова сесть на тот диван у панорамного окна, ощутить тяжесть идеального перстня на пальце и просто молча смотреть на город. Быть частью той красоты и того порядка. Чувствовать себя не обслуживающим персоналом, а хозяйкой. Хоть в чьей-то жизни, хоть в вымышленной.
А вместо этого – снова надо вставать, готовить ужин, встречать детей, делать уроки… Снова быть тенью. Эта мысль была хуже всего.
Она еще несколько минут просто лежала, глядя в потолок, пытаясь удержать в себе хотя бы отголосок того глянцевого ощущения. Но все растворилось, не оставив и следа.
И тут до нее донеслись звуки – хлопнула входная дверь, послышались голоса. Алиса с Марком вернулись из школы. И тут же, как удар хлыстом, пришло другое осознание: она до сих пор не помыла посуду с завтрака. Гора тарелок и чашек в раковине была немым укором в ее «пустом» дне.
Нехотя, с ощущением тяжести в каждой клетке, она побрела в гостиную. Картина была до боли знакомой: Марк, как заправский диверсант, на ходу создавал хаос. Его портфель валялся у самой двери, куртка образовала бесформенную кучу на полу, а ботинки, словно разбежавшись, лежали в разных углах – один в коридоре, другой забросило аж на половину кухни.
Алиса, встретив ее взгляд, демонстративно, с таким видом, будто в воздухе витала чума, развернулась и скрылась в своей комнате, громко щелкнув замком.
«Дура!» – мысленно, сгоряча, выругала она саму себя. «Полная, бестолковая дура! Зачем ты тогда кричала эти ужасные слова?» Угрызения совести вонзились в сердце острее, чем разбросанные ботинки.
– Марк, собери вещи, – автоматически бросила она, но сама уже шла на кухню, к злополучной посуде. Мытье тарелок стало не рутиной, а необходимым ритуалом, чтобы собраться с мыслями.
«Сейчас быстренько разберусь здесь и пойду к ней. Пойду и поговорю. Надо же с чего-то начинать менять эту реальность. Хотя бы с собственных ошибок».
И это решение, пусть и рожденное в муках вины, было уже не бегством в сон, а действием. Первым шагом назад – к дочери, и одновременно – вперед, к себе самой.
Пока Веронина наводила порядок на кухне, скребя пригоревшую кашу с кастрюли, ее мозг лихорадочно работал вхолостую. Она пыталась придумать слова – умные, взвешенные, слова взрослой женщины, которая признает свою ошибку. Что-то вроде: «Алиса, мне нужно извиниться за вчерашнее. Я была не права, позволила эмоциям взять верх над разумом». Звучало фальшиво и пафосно, как заученная фраза из плохого сериала.
Другие варианты – мольбы, оправдания, что «не подумала», что «ляпнула сгоряча» – казались ей еще более жалкими и недостойными. Они не отражали и доли того ужаса и раскаяния, что сидели у нее внутри комом.
В голове был полный штиль. Ни одной готовой, выверенной фразы. И тогда она отложила губку, вытерла руки и приняла единственно верное в этой ситуации решение: выбросить все заготовки. Зайти и говорить то, что подскажет сердце. Не оправдываться, не объяснять. Просто подойти, обнять ее – эту колючую, обиженную девочку – и сказать, что любит ее. И что ей безумно жаль.
С таким планом, больше похожим на прыжок в пропасть, она подошла к двери дочери. «Ну-ка, соберись, тряпка, – сурово приказала она сама себе, занося кулак, чтобы постучать. – Ты там с галереями управлялась, а со своим ребенком поговорить не сможешь? Сможешь. Дыши. И просто люби ее».
Она сделала глубокий вдох и постучала. Ответа не последовало.
Она зашла в комнату дочери, чувствуя себя незваным гостем на чужой территории. Воздух здесь был густым от обиды и звуков, которые доносились из больших наушников, плотно охвативших голову Алисы. Вероника жестом попросила снять их.
В ответ дочь лишь резче отвернулась, прибавив громкость. Тогда Вероника осторожно дотронулась до ее плеча.
Это было ошибкой. Алиса взвилась, как ракета, сдернула наушники, и они с грохотом упали на пол.
– Выйди из моей комнаты! – ее голос был не криком, а оглушительным визгом, полным ненависти и боли. – Выйди! Не хочу тебя видеть! Не хочу тебя слышать! Я же вчера сказала – ты мне больше не мать!
Она стояла, вся напряженная, как струна, сжатые кулаки дрожали. В ее глазах не было и тени детской мягкости – только огонь непокорного, жестокого в своем максимализме бунта. Этот взгляд пробивал Веронику насквозь, отнимая слова, воздух, все те шаткие надежды, с которыми она сюда пришла. Это была не просто ссора. Это была стена, выстроенная за одну ночь, и Вероника сама заложила в ее фундамент самый тяжелый камень.
Слова дочери вонзились в Веронику острее любого ножа. Они не просто ранили – они разорвали что-то внутри, ту последнюю тонкую перегородку, что сдерживала океан ее собственного отчаяния. Слезы хлынули из глаз ручьем, горькие и обжигающие. И прежде чем она успела что-либо осознать, ее рука сама сжалась в кулак и со всей силы обрушилась на крышку комода рядом.
Глухой, костяной удар прозвучал оглушительно в звенящей тишине комнаты. Боль пронзила руку, костяшки побелели, но она ее почти не чувствовала – ее захлестнула другая, гораздо более страшная боль. Но этот резкий, почти животный жест заметила Алиса. Ее глаза расширились от страха, вся ее бунтарская поза мгновенно испарилась, сменившись шоком.
И тут Веронику прорвало. Не тирадой о величии, как в мире глянца, а другим, накопленным за годы криком души.
– Я же тебя люблю! – выкрикнула она, ее голос сорвался на хриплый плач. – Понимаешь? Люблю! И я делаю все, что могу! Все! Чтобы у тебя все было! Чтобы ты не чувствовала эту тягость, эту грязь быта! Я никогда не заставляю тебя мыть посуду, убирать, готовить! Все тащу на себе! А ты думаешь, мне легко? Думаешь, я железная?!
Она стояла, вся трясясь, сжимая поврежденную руку, слезы текли по ее лицу ручьями, смывая остатки косметики и достоинства.
– Я сорвалась! Да! Сказала ужасное! И я сожалею об этом каждую секунду! Но я тоже человек, я могу сломаться! Мне тоже больно!
Алиса замерла, пораженная. Она видела мать уставшей, раздраженной, но никогда – такой… уничтоженной. Впервые до нее стало доходить, что за материнской функцией «готовить-убирать-стирать» скрывается живой человек, который может испытывать такую всепоглощающую боль.
Вероника больше не могла говорить. Она, пошатываясь, развернулась и вышла из комнаты, тихо прикрыв за собой дверь. Она дошла до гостиной, рухнула на диван, притянула колени к груди, обхватив их руками, и разрыдалась. Это были не тихие слезы, а глубокие, надрывные рыдания, выворачивающие душу наизнанку. Все, что копилось годами – невысказанность, одиночество, усталость, ярость, – вырвалось наружу одним огненным потоком.
И тогда, от этой чудовищной, всепоглощающей усталости, ее сознание просто отключилось. Тело, не в силах больше выносить эту боль, погрузилось в забытье, оставив ее сидеть в позе эмбриона на краю дивана, с мокрым от слез лицом и побелевшими костяшками на сжатом кулаке.
Ее собственные всхлипы затихали, словно кто-то плавно убавлял громкость. Они растворялись в нарастающем гуле чужих голосов, резких, наполненных спорной энергией. Тишина ее гостиной растаяла, сменившись ощущением прохладного воздуха и строгого пространства.
Она открыла глаза. Пентхауса не было. Она сидела в огромном кожаном кресле за массивным столом из черного полированного дерева. Перед ней простирался кабинет, достойный журнала об архитектуре – минимализм, сталь, стекло и панорамные окна во всю стену, за которыми сиял незнакомый деловой район.
Прямо перед столом, опершись на него руками, стояли двое мужчин. Артем, с напряженным и раздраженным лицом, и незнакомый мужчина лет шестидесяти, с живыми, горящими глазами и седой шевелюрой, разметавшейся в творческом беспорядке. На столе между ними был хаотично разбросан веер распечатанных фотографий – абстрактные полотна, полные мрачной энергии и тяжелых мазков.
– Петр Леонидович, я вас умоляю, будьте благоразумны, – голос Артема был сдавленным, он тыкал пальцем в одну из фотографий. – Эта работа слишком депрессивна. Она задавит все остальное в зале.