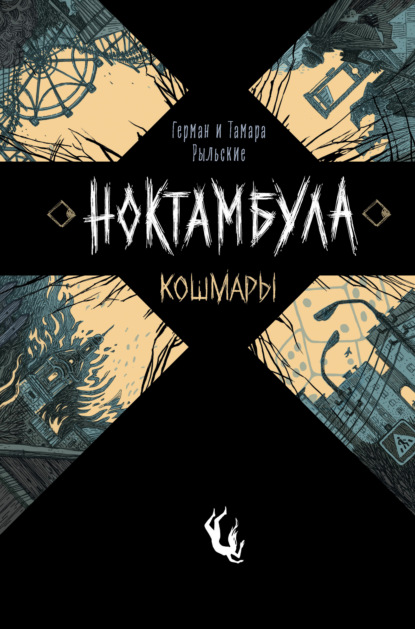Искусство быть собой

- -
- 100%
- +
– Это – квинтэссенция боли современного общества, – парировал художник, его голос гремел, а руки взметались в драматическом жесте. – Вы хотите сладкие картинки? Идите в булочную. Искусство должно будоражить, должно обжигать. А эта, – он с презрением отшвырнул другую фотографию, – эта ваша «гармония» – она мертворожденная, беззубая.
– Она продаваемая, – почти крикнул Артем. – А ваша «боль» повиснет на стенах мертвым грузом. Вероника, – он обернулся к ней, ища поддержки, – ну скажите же ему. Вы же понимаете, что мы не благотворительный фонд.
Оба взгляда устремились на нее. Гневный и требовательный – Артема. Вызывающий, полный творческого гонора и уязвленной гордости – художника. Воздух трещал от накала страстей. И она чувствовала себя не сломленной женщиной с дивана, а центром этого урагана, тем, чье слово будет решающим.
Вероника смотрела на разгневанного Петра Леонидовича и взволнованного Артема, и внутри у нее все замирало от странного, почти детского восторга. Она здесь. Она снова здесь! Пусть ее возвращение ознаменовалось не бокалом шампанского, а профессиональной склокой – это не имело ни малейшего значения. Главное, что сейчас ее реальность – это не продавленный диван и не звук собственных рыданий, а этот стол, эти фотографии и эти два взрослых мужчины, требующих от нее решения. От нее. Ее слова сейчас будут иметь вес.
«Ну что, тряпка, – мысленно бросила она себе вызов, чувствуя, как по спине пробегает знакомый холодок уверенности. – Соберись. Ты же не профан. Вспоминай все. Все, что учила, что видела, что чувствовала».
Да, ее художественное образование в серой реальности было давним и незаконченным. Оно казалось ненужным хламом, как и все в той жизни. Но сейчас этот хлам внезапно обрел ценность. Те обрывки знаний, истории искусств, которые она когда-то впитывала с восторгом, – все это было здесь, в ее памяти. И ее собственный горький опыт, ее боль, ее «серая» палитра эмоций – все это вдруг стало ее главным инструментом. Она-то знала, что такое настоящая боль, не абстрактная, а бытовая, гложущая изо дня в день.
Она медленно подняла взгляд, встретившись сначала с Артемом, а затем с горящим взором Петра Леонидовича. Ее голос, когда она заговорила, прозвучал на удивление ровно и властно, без тени той истерики, что разрывала ее несколько минут назад в другом мире.
– Артем, твои опасения по поводу коммерции я понимаю. Петр Леонидович, ваш творческий огонь – уважаю. Но давайте от абстрактных понятий перейдем к конкретике. Покажите мне ту самую работу, что, по-вашему, «обжигает». И ту, что, по мнению Артема, «мертва». Объясните, почему. Я хочу не эмоции, я хочу услышать вашу концепцию.
Она откинулась на спинку кресла, сложив руки на столе. Она не знала, права ли. Но она действовала. И в этом действии была та самая свобода, ради которой она так отчаянно хотела сюда вернуться.
Вероника медленно перебирала фотографии, и ее взгляд задержался на той самой, «обжигающей» работе. В этих грязно-серых, небрежных мазках, в этой размытой, унылой абстракции она с жуткой ясностью узнала… себя. Свою серую реальность. Ту самую размытость бытия, где нет четких контуров, а лишь полутона усталости и безысходности. Это было слишком узнаваемо, слишком больно. Этому не было места в ее идеальном мире.
Она резко, почти с отвращением, отшвырнула эту фотографию в сторону. Ее пальцы потянулись к другой – к той яркой, кричащей работе, которую предлагал Артем. Она смотрела на буйство красок, на дерзкую, почти нахальную уверенность мазка. «Смотри, какая я классная! Возьми меня!» – кричала картина. И Веронике она тоже не понравилась. Это была не сила, а лишь ее дешевая, крикливая имитация.
Она отложила и эту фотографию. Затем подняла взгляд на Петра Леонидовича, который замер в ожидании, весь – воплощенная творческая обида.
– Петр Леонидович, – ее голос прозвучал тихо, но с такой неоспоримой властью, что даже Артем замер. – Мы выставим любые десять ваших работ. Из любого периода. Вы сами выберете.
Художник начал было кивать, сияя от победы, но она подняла палец, останавливая его.
– При одном условии. В течение месяца вы предоставите мне одну, абсолютно новую картину. И передадите ее галерее безвозмездно, навсегда отказавшись от прав на нее и не интересуясь ее судьбой.
Она сделала паузу, ее взгляд стал острым, пронизывающим, будто она смотрела не на художника, а куда-то вглубь себя, формулируя сокровенное желание.
– Но я хочу, чтобы эта картина… рождала власть. Не кричала о ней, как эта, – она кивнула на отложенную яркую работу. – А именно рождала. Всеобъемлющую. Всерешающую. Всепоглощающую власть. Такую, чтобы, глядя на нее, любая тень сомнения обращалась в прах. Мне не нужна серая тоска и не нужен бутафорский праздник. Мне нужна сила. Сможете?
В воздухе повисло напряженное молчание. Это был уже не спор о коммерции и искусстве. Это был вызов. И Петр Леонидович, глядя в ее холодные, уверенные глаза, медленно, кивнул. Он понял. Заказчица желала не просто картины. Она желала материализовать собственную сущность.
Петр Леонидович замер на мгновение, переваривая ее слова. Десять его работ – любых, которые он сам выберет! Это была не просто выставка, это была персональная вселенная, которую ему доверяли создать. Его художественное нутро, еще секунду назад сжавшееся от обиды, теперь воспряло, расправило крылья и взмыло ввысь. Да, одна работа безвозмездно… Но что такое одна картина по сравнению с таким шансом? Тем более, когда заказ – это не просто техническое задание, а вызов, который зажег в нем новый огонь.
Его лицо просияло. Все обиды и творческие амбиции мгновенно испарились, сменившись восторгом одержимости.
–Вероника Сергеевна! Благодарю! Это… это гениально! – выдохнул он, его глаза бегали по фотографиям, уже выстраивая в голове новую экспозицию. – Я сделаю! Сделаю именно так, как вы хотите! Власть… да, всерешающая… я уже чувствую ее! Меня осенило! Прямо сейчас!
Он схватил свою потрепанную папку, почти не глядя сунул в нее фотографии и бросился к двери, как ураган.
–Мне нужно творить! Сейчас же! Простите, я побежал! – он кивнул Артему и, не в силах сдержать воодушевления, уже из коридора крикнул: – Вы гений, Вероника Сергеевна!
Дверь захлопнулась, оставив в кабинете гулкую тишину. Артем повернулся к ней, его раздражение сменилось на откровенное восхищение, смешанное с легким шоком.
–Черт, Вер… Ты его не просто уговорила. Ты его… перезагрузила. И десять картин… это смелый ход.
Вероника же медленно выдохнула, откинувшись на спинку кресла. На ее губах играла едва заметная, но безраздельно властная улыбка. Она не уговаривала. Она бросила вызов – и он был принят. В этом мире ее слова имели вес, способный вдохновлять, менять направление мысли, заставлять творить. Это ощущение было слаще любой победы в ссоре. Это была настоящая, созидательная сила. И она только что в полной мере ею воспользовалась.
Артем был ошеломлен не меньше художника, но по совершенно другим причинам. Обычно Вероника если не во всем с ним соглашалась, то, по крайней мере, внимательно выслушивала его аргументы. В конце концов, у него было серьезное образование, полученное и здесь, и в Европе, не говоря уже о бесчисленных курсах, семинарах и выставках, которые он посещал, чтобы всегда быть в курсе тенденций. Ее внезапная, почти диктаторская уверенность была для него в новинку.
Но Артем не был бы собой, если бы потерял самообладание. В его глазах мелькнул быстрый, почти машинальный пересчет потенциальной выгоды, и его лицо снова озарилось привычной, льстивой улыбкой.
– Вероника, это… гениально, – произнес он, и в его голосе зазвучали ноты почтительного восторга. – Ты, как всегда, права на все сто. Мы же изначально и планировали выставить около десятка его работ, так что мы ничего не теряем. А то, что он сам их выберет… Гениальный ход! Это подчеркнет наше уважение к его видению.
Он сделал паузу, подходя ближе, его взгляд стал хищным и деловым.
–И эта новая картина… Бесплатно. Ты знаешь, сколько будет стоить полотно Петра Леонидовича, написанное по специальному заказу для нашей галереи, после того как мы его как следует разрекламируем? Оно одно окупит все расходы на всю выставку!
Высказав свой восторг в такой, блестяще коммерческой форме, он лукаво подмигнул.
–Такой прорывный момент нельзя оставлять без внимания. У меня как раз припасена бутылочка того самого твоего любимого шампанского для особых случаев. Я сейчас вернусь.
Он развернулся и вышел из кабинета легкой, пружинистой походкой человека, который только что заключил невероятно выгодную сделку. Для него это был финансовый триумф. Для нее – подтверждение безграничной власти. И в этом и была вся суть их мира.
Оставшись одна, Вероника ощущала небывалый подъем. Эйфория творчества и власти звенела в крови. Она только что одним росчерком пера, одной лишь силой воли решила судьбу художника, будущей выставки, задала направление целой галерее! Воздух в кабинете казался ей напоенным энергией и безграничными возможностями.
И вдруг… свет из панорамных окон начал меркнуть, будто кто-то плавно поворачивал рычаг. Очертания массивного стола поплыли, стали прозрачными. Восторг сменился леденящим ужасом. Она чувствовала, как ее выдергивают, как некую сущность, вцепившуюся в чужую реальность.
– Мама!
Этот крик был тонким, пронзительным и до боли знакомым. Марк. Сознание, цеплявшееся за глянцевый мир, начало сдаваться, подчиняясь более сильному зову.
«Нет! – отчаянно закричала она внутри. – Еще не сейчас! Дай мне закончить! Я не хочу туда! Я не хочу слушать про уроки и ссоры! Я хочу быть здесь!»
Она изо всех сил пыталась ухватиться за ускользающие образы – за холодный блеск стола, за запах кожи, за обещание шампанского. Но серая реальность не отпускала. Ее вытягивало неумолимо, как на поводке.
И тут ее физически догнал резкий толчок. Кто-то тряс ее за плечи, и детский крик раздался прямо в ухо, сливаясь с нарастающим звоном:
– Мам! Ты почему мне не отвечаешь?! Ты почему меня не слушаешь?!
Мир глянца рухнул, как карточный домик. Она судорожно вздохнула, и ее глаза открылись. Над ней, с испуганным и сердитым лицом, стоял Марк. Она снова сидела на диване в гостиной. В ушах еще стоял гул от спора о искусстве, но его уже перекрывал требовательный зов сына. Вероника зажмурилась, пытаясь хоть на секунду вернуть тот вкус власти, но он был безвозвратно потерян, оставив после себя лишь горькое послевкусие и чувство полнейшего опустошения.
Вероника окончательно ощутила всю тяжесть своей неудачной жизни. С заплаканным лицом, с пустотой внутри, она повернулась к сыну, и ее голос прозвучал хрипло и устало:
– Марк, ну что случилось? Ты же видишь, мама устала… Присела отдохнуть. Дай мне хоть минуту времени…
– Какую минуту? – с наигранным, почти плачущим возмущением в голосе закричал он. – Ты уже два часа сидишь и не шевелишься! Алиса из комнаты не выходит! А я голодный! Я хочу кушать!
И тут Веронику как будто окатили ледяной водой. Она опомнилась окончательно. Дети пришли из школы. А она… она даже не подумала о еде. Она ничего не приготовила. В доме не было ничего, что можно было бы просто разогреть и поставить на стол. Паника, острая и жгучая, сменила апатию. Что она скажет ему? Как признается, что их мать, чья главная функция – кормить и обстирывать, сегодня не справилась и с этим?
Она уже открыла рот, чтобы выдать какую-нибудь жалкую отговорку, как вдруг из своей комнаты в гостиную вышла Алиса. Дочь подошла к ней, не глядя в глаза, и тихо, но четко сказала:
– Я подумала… насчет твоих слов… И решила, что ты, наверное, правда не хотела так сказать. Что ты правда любишь нас с Марком. Ну… ладно, мам. Проехали. Давай забудем.
И, помолчав, добавила уже обыденным тоном, разрушая накатившую было сентиментальность:
–А есть и правда охота.
В этот момент в груди Вероники что-то екнуло – странной смесью стыда, облегчения и новой, странной ответственности. Дочь сделала шаг. Хрупкий, неловкий, но шаг. И теперь очередь была за ней. Она должна была найти силы не просто накормить их, а как-то ответить на этот шаг. Не словами, а делом. Встать. Начать двигаться. Даже если мир глянца остался там, за невидимой стеной, этот мир, здесь и сейчас, все еще нуждался в ней. Пусть и сбитой с ног, заплаканной, но – живой.
Вероника с горькой прямотой посмотрела на детей и выдохнула:
–Вы знаете… Я сегодня как-то ничего и не приготовила.
Осознание этого прозвучало как приговор. Но она тут же, по старой привычке, попыталась собрать остатки сил:
–Но я сейчас что-нибудь быстро придумаю. Вы подождите недолго.
И тут Алиса, глядя куда-то в сторону, сказала так, что Вероника не поверила своим ушам:
–Мам, а давай я тебе помогу.
Вероника замерла, уставившись на дочь. В ее голове пронеслись все их ссоры, все хлопнутые двери, все взгляды, полные ненависти.
–Повтори, что ты сейчас сказала, – попросила она почти шепотом, боясь спугнуть этот призрачный порыв.
Алиса уже смеясь, с легким, незлым закатыванием глаз, ответила:
–Ладно, мам, не совсем «я тебе помогу». Но я знаю, как найти решение и выход из этой… «очень сложной ситуации».
Она снова улыбнулась, и в этой улыбке было что-то новое – не ехидство, а скорее смущенная попытка шутки. Вероника смотрела на нее в полной растерянности, пытаясь понять: это искреннее желание помочь или изощренный черный юмор? А тем временем Марк, забыв про голод, уже вовсю трещал о какой-то компьютерной игре, которую видел у мальчиков на перемене.
Знакомая суета, этот бытовой водоворот, снова начинал закручивать ее, пытаясь утянуть на дно. Но на этот раз Вероника не поддалась. Она не сводила глаз с дочери, с этой новой, неуверенной, но улыбки. И ее ответ вырвался практически беззвучно, одним движением губ, полным безоговорочной капитуляции и надежды:
– Да. Я хочу, чтобы ты помогла мне.
Алиса демонстративно, с видом великого изобретателя, взяла свой телефон, подошла к маме и сунула экран ей под нос. На нем было открыто приложение ближайшей пиццерии, которая находилась прямо в их микрорайоне.
– Смотри, как надо, – с пафосом заявила она, водя пальцем по экрану. – Берешь пальчик… нажимаешь на кнопочку… и – вуаля! – «Пицца «Четыре сыра» приедет к тебе через 15 минут».
Она отняла телефон и, уже смеясь, посмотрела на маму, в глазах которой бушевала смесь непонимания, облегчения и зарождающейся улыбки.
– Все. Я помогла, чем могла, – с игривым поклоном заключила Алиса. – А ты, заходи, если что… – фразой из старого, но любимого всеми мультфильма завершила беседу Алиса и подмигнула маме.
Марк, услышав волшебное слово «пицца», тут же забыл про компьютерные игры и закричал: «Ура! Пицца!»
А Вероника стояла посреди гостиной, глядя вслед дочери. Вихрь мыслей кружился в голове: «Она не стала мыть посуду или варить суп. Она просто нашла выход. Самый простой и современный. И помогла. Пусть и вот так, по-своему, с сарказмом».
И впервые за долгое время ее усталое лицо озарила не наигранная, а самая что ни на есть настоящая, легкая улыбка. Возможно, путь к миру в семье лежал не через многочасовые душевные разговоры, а через вовремя заказанную пиццу и неуклюжую шутку. И это было ничуть не менее ценно.
Курьер примчался действительно через пятнадцать минут, привезя огромную, пахнущую дымком и сыром пиццу. И не только ее – пока Алиса шла в свою комнату, она по-хозяйски ткнула в экран еще несколько раз, и к пицце добавилась целая гора хрустящей картошки фри, наггетсы, несколько бутылок газировки и пакет с маффинами.
– Ну что, – с торжествующим видом заявила она, расставляя на кухонном столе целый пир, – я сказала, что найду решение!
И вот они сидели втроем за большим кухонным столом, заваленным коробками и стаканчиками. И происходило нечто волшебное.
– Мам, а сегодня на физ-ре мы играли в вышибалу, и я последний стоял! – взахлеб рассказывал Марк, и в его глазах не было и тени привычного капризного блеска. Он просто делился с мамой своим днем.
– Молодец, Маркуша! – искренне восхищалась Вероника, отламывая кусочек пиццы с сыром. Она слушала, и ей было интересно.
– А у нас в понедельник контрольная по литературе, – подключилась Алиса, уже без прежней озлобленности. – И Юлька, представляешь, опять с Васей поругалась. Они уже неделю не разговаривают.
– Опять? – улыбнулась Вероника. – А из-за чего на этот раз?
И понеслось. Они болтали, смеялись, делились планами на лето – Алиса мечтала поехать к морю, Марк – каждый день ходить в парк аттракционов. Не было ссор, упреков, тягостного молчания. Были просто мама, дочь и сын, которые устроили себе незапланированный праздник среди недели.
Душа Вероники, еще недавно изможденная и истерзанная, понемногу отдыхала. Она смотрела на смеющихся детей, на этот неидеальный, но такой живой и теплый ужин, и ловила себя на мысли: может, счастье – не в глянцевых пентхаусах и безграничной власти. А вот в этом. В возможности просто сидеть и болтать со своими детьми, видя в их глазах не обиду и злость, а радость и доверие. Это было просто. И это было прекрасно.
Видя эту беседу, слыша смех детей, Вероника в первый раз за многие годы увидела нечто поразительное. Они видят ее. Не функцию, не обслуживающий персонал, а именно ее. И где-то в глубине – ценят. Просто не умеют, не знают, как это выразить, зажатые в тисках собственного взросления и детских обид.
Она огляделась. На столе красовалась гора посуды – коробки из-под пиццы, стаканчики, крошки. А на фоне этого хаоса сидели ее улыбающиеся, сытые дети. И она вдруг с абсолютной, кристальной ясностью поняла: счастье не в идеальной чистоте. Не в вылизанной до блеска кухне и не в перфекционизме, который она сама же и возвела в культ, пытаясь хоть как-то контролировать свой неуправляемый мир. Оно – вот в этих незапланированных, шумных, немного безалаберных моментах. В хрусте картошки фри и в смехе над школьными историями.
А еще она поняла кое-что другое, возможно, еще более важное. Что не нужно молча тащить все на себе, копя обиду. Что не стыдно просить о помощи. И не обязательно это должен быть крик души или униженная мольба: «Помогите мне, я не справляюсь!».
Можно просто сказать: «Ребята, знаете, а для мамы было бы очень приятно, если бы вы сегодня помогли мне помыть посуду». Или: «Заправить свою постель для меня – как маленький подарок».
Вдруг это сработает? Вдруг им тоже не хватает не приказов и нотаций, а вот таких – простых, человеческих просьб? Нехватки не «мамы-уборщицы», а мамы, которая нуждается в их маленькой помощи, в их участии? Мамы, которая видит в них не источник проблем, а партнеров.
Этот вечер, пахнущий пиццей и детским прощением, подарил ей не просто передышку. Он подарил ей новую карту для прокладки маршрута в ее собственной жизни.
Дети, сытые и довольные, поднялись из-за стола и, побросав салфетки на тарелки, разбежались по своим комнатам – делать уроки, смотреть видео, жить своей жизнью. Вероника осталась стоять посреди кухни, которая теперь напоминала поле после пиршества варваров.
Где-то в глубине души теплилась наивная надежда, что Алиса обернется на пороге и скажет: «Мам, давай я тебе помогу убрать». Но дочь лишь крикнула «Пока, мам!» и скрылась в комнате. Щелчок замка прозвучал не как вызов, а как обычный бытовой звук.
Вероника вздохнула и принялась собирать коробки. И в этот момент ее внутренний голос, уже без прежней ярости, а с усталой, но трезвой добротой, произнес:
«Вероника, ну что ты хочешь? Тебя только что простили. За те ужасные слова, что нельзя было произносить никогда. Ты получила вечер, о котором могла только мечтать. Они улыбались, они болтали с тобой. Разве этого мало? Не жди мгновенного чуда. Радуйся тому, что есть. Все остальное… все остальное придет постепенно».
И странное дело – эта мысль не вызвала в ней новой волны отчаяния. Напротив, она принесла умиротворение. Она посмотрела на беспорядок не как на символ своего рабства, а как на следствие хорошего, теплого вечера. Да, она уберет одна. Но теперь она знала – это не навсегда. Сегодняшний ужин был первым шагом. А путь, как известно, начинается с первого шага.
Вероника была так воодушевлена неожиданно теплым вечером, что даже оставшись одна на кухне, не почувствовала привычной гнетущей тишины. Напротив, ей стало скучно в этой тишине. Она подошла к музыкальному центру, пролистала старый, забытый плейлист – песни ее молодости, которые когда-то заставляли ее мечтать. Сначала музыка зазвучала тихо, как крадущийся намек. Потом громче. И вот ее уже накрыла волна знакомых аккордов и слов.
Она уже не чувствовала себя серой и убогой. Она, подпевая и слегка приплясывая, собирала одноразовые стаканчики, бумажные пакеты и салфетки в мусорный мешок. Потом подошла к раковине и, не раздумывая, загрузила всю гору посуды в посудомойку – дорогую, современную, которой почти не пользовалась, вечно экономя воду и электричество и предпочитая мыть вручную.
«Хватит, – с вызовом подумала она, захлопывая дверцу. – Я – не посудомойка. Вот она – посудомойка. Пусть она и моет. А я с этого дня – Вероника. Вероника, которая…»
Она не успела додумать, кто она, потому что в этот момент хлопнула входная дверь. В прихожей возник Дмитрий. Его лицо было мрачным, плечи ссутулены.
– Я устал как собака! – рявкнул он, не снимая пиджака. – Весь день на работе слушаю, как люди треплются! А тут прихожу – у вас тут концерт! Выключи! Я хочу тишины!
Его голос был грубым, полным раздражения, которое он принес с работы и теперь выливал на нее. Старая, привычная реальность пыталась вернуться, наступить на горло ее зазвучавшей песне.
Вероника на мгновение замерла, глядя на него. Песня продолжала играть, наполняя кухню энергией, которую она так долго в себе подавляла.
– Музыка не мешает тебе раздеться, – тихо, но четко сказала она, не двигаясь с места. – И поужинать. Есть пицца.
– Я сказал, выключи! – он сделал шаг вперед, его лицо исказилось. – Ты меня слышишь?
Она посмотрела на него – на этого уставшего, озлобленного мужчину в ее доме. А потом обернулась и… убавила громкость, но не выключила музыку полностью. Тихий, но настойчивый ритм продолжал биться в тишине.
– Теперь можешь раздеться, – повторила она. – И поужинать. В тишине не получится, но в спокойной обстановке – вполне.
Это была не просьба. Это было установление новых границ. Первых, шатких, но уже существующих.
Муж, видя, что она не спешит подчиняться, смотрел на Веронику с нарастающим недовольством. Ее внезапная «свобода действий» раздражала его куда сильнее, чем музыка. Ему это не нравилось. Совсем.
Он привык к другому. Привык, что, переступив порог, он попадает в пространство, где он – безусловный центр. Где Вероника – тихая, безропотная тень, готовая принести тапочки, поставить на стол ужин и раствориться, не тревожа его своим существованием. Мысленно он даже называл это словом «хозяин». Ему нравилось, когда она смотрела на него с подобострастием, спрашивая: «Чем тебе услужить?»
В этом была его компенсация. На работе он, хоть и начальник, но среднего звена, вечно был между молотом и наковальней – вышестоящее руководство, довлеющие планы, капризные подчиненные. Там ему приходилось подчиняться, прогибаться, улыбаться тем, кого терпеть не мог.
А дом… Дом был его крепостью. Местом, где он мог, наконец, скинуть доспехи и почувствовать себя не просто мужчиной, а царем и богом. Единственным источником власти и авторитета. И Вероника своим безмолвным служением была главным доказательством этого его статуса. А сейчас она вдруг перестала быть безмолвной. Она слушала свою музыку. Она смотрела на него не с подобострастием, а с… вызовом? Нет, он этого не потерпит.
– Я не буду ужинать под этот треп, – прошипел он, снимая пиджак и бросая его на стул с таким видом, будто ждал, что она его тут же подхватит и аккуратно повесит. – Или ты выключишь эту дребедень, или я сам это сделаю.
Он сделал шаг к музыкальному центру, демонстрируя свое право на единоличную власть в этом пространстве. Его отчаяние быть богом в четырех стенах сталкивалось с ее первым, робким проблеском самоуважения.
Вероника, сдавшись под грузом привычного бессилия и понимая свое полное безвластие в этом сером мире, послушно потянулась и выключила музыку. Гробовая тишина, которую так желал муж, воцарилась на кухне, ставшая символом ее капитуляции.
Уходя в спальню, она на полпути обернулась и бросила ему через плечо, стараясь, чтобы голос не дрогнул:
–Посуда одноразовая. Ты, наверное, справишься просто выкинуть ее в мусорное ведро. А я очень устала, пойду прилягу.
Муж замер с вилкой в руке, ошарашенный. Он привык, что она, как верный пес, сидит рядом на кухне, молчаливая и услужливая, дожидаясь, когда он доест, чтобы убрать за ним посуду. Этот проблеск самостоятельности, это слабое подобие личных границ вызвало у него лишь молчаливое раздражение. Он ничего не сказал, но его напряженнная спина выражала все его недовольство.