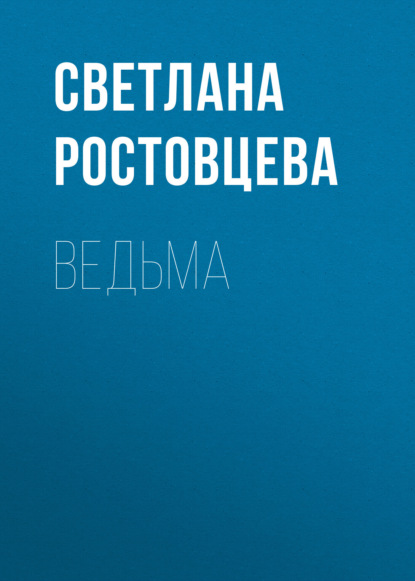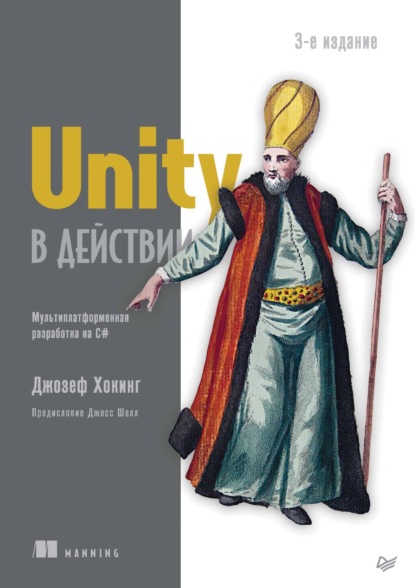- -
- 100%
- +
Подружки её объявляются одна за другой – будто случайно, будто делом. Арина – сухая, злым глазом, с узелком тряпицы: «слухай, Дуня, соль одолжи щепоть»; Феня – язык стреляет, рот сладкий, а слово всегда боком; Маланка – смехотунья, сама как осеннее яблоко, румяная; Дотка – курносая, быстрая, вечно в чём-то мельтешит. Сядут на пороге, поворотят платки и шепчутся – не вслух, в уголок рта: вроде про квашню, про пряжу, про Михайлов день – да у каждой взгляд будто оступается, как на гнилой доске. Видно, что у них внутри что-то зудит: хорошо-то хорошо, а всё ж грех. Никто, мол, ничего не знает – и все знают.
Толки про Авдея не смолкают. Всякий двор – со своей приметой:
– В Еремин день он к железу руку приложил, – у Евфимьи говорят. – В сей день, сказывали, смерть ходит рядом, не тронь лишний раз железо – подтолкнёт.
– Да не сам он, – шепчет старуха Фетинья, – я ночь сидела, свечку жгла – внятно слышала, как за околицей кто-то шуршит и поногами по мерзлой траве скребётся.
– Пьян был, – отрезает кузнец, – пьяная дурь – прямой путь к яме.
И тут же добавляет негромко, без поучений:
– Железо поёт – слушай. Когда песня ровная – житьё ровное. А нынче у наковальни глухо. Не по нраву мне.
Кузница у оврага стоит отдельно – от деревни подальше, чтоб огонь не схватил чужую кровлю. Днём там полутьма, жар, меха вздыхают, как старик; тиски, клинья, молоты – всё на своих местах. Кузнец Гаврила глядит на Тура при встрече внимательно, не глазами – лбом, будто мыслью трогает: «Держись, мол. Что петь перестало, само не запоёт». И снова к железу. Мужик он сдержанный, слово редкое.
Евфимья, крестная, заглянула к Дуне будто по делу – порожки золой присыпать от скользи да хлеба вынуть. Посидела на лавке, вздохнула, рубчик на платке поправила.
– Уныние – грех, – сказала негромко, без укола. – Но и веселиться поспешно не надобно. Смерть одна не ходит.
Сказала – и молчит, руки на коленях сложила. Не в пророчицы лезет – памятью говорит: видала, как бывало. Ушла тихо, без советов лишних, оставив после себя запах печи и тёплых тряпиц.
Митрошка день ото дня кашляет все глуше. Сухо, надрывно, в груди застревает. От кашля лицо белое, как тесто. Устинья его уводит в избу, завязывает старым платком, а он, едва стихнет, всё на порог норовит, будто воздух на дворе другой. И раз, проходя мимо Тура, сказал так, что едва слышно:
– Отдать надо. Лесной.
И глаза у него – не детские совсем. Сказал – как в воду кинул камешек, и пошёл дальше, за мать спрятался. Устинья крестится, бормочет, сама не понимая – от дурного ли, от страха ли.
На площади, коробейники, да офени торговали холстом, лентами да ладаном, нынче пусто. Только мальчишки бегают за облетевшей берёзовой метёлкой по ветру. На церковном крыльце поп Савватий коротко беседует с теми, кто подошёл свечку поставить: говорит не строго, а злостью дерёт – про нечистое отродье, про лицá бесовские. Евфимья потом шепнёт: «не лицá – лики». Да кто её слушает – у всякого своё в голове.
Дуня живёт в этом шуме как в воде: всё при ней, споро, руки крепкие, движения быстрые, взгляд прямой. В ней пыл таился – живой, горячий, он чувствовался даже в том, как она хлеб резала или плечом ведро подхватывала; у него ж к ней слова сухие, как вязанка, странное внимание – не к бабе молодой, не к жене своей, а к недомолвке, что появилась в ней – охотник, звериным нутром чующий добычу в силках.
К вечеру, когда туман наползает на улицу и лошади сопят в упряжи, собирается новый разговор у ворот.
– Авдея схоронили – да на этом ли конец? – говорит один.
– Не к добру тишина, – вторит другой. – Слыхал, как ночью собаки смолкли разом?
– Смерть одна не ходит, – подытоживает Фетинья. – На одно погребение – второе наготавливай. Так повелось.
И каждый делает вид, что слышать подобного не желает, а сам оглядывается – словно тень ищет.
Тур-охотник уходит к околице. Не спешит, но идёт каждый день, будто тропу приминает. Сетки чинит, нож правит, ремни смолой обтирает – всё при нём, а нужного – нет. Внутри пусто, аж сосёт под ложечкой, как перед долгим шляхом без воды. И настораживает его не то, что пусто, – а то, что даже ночь теперь немая, без снов. Раньше снилось: тёмный бор дышит, на воде – чёрный просвет, из листвы глядят чужие глаза; наст режет щиколотки, колокол воет без языка, а в самом конце – шёпот с горечью полыни. Нынче – ничего. Чёрный плат, и под ним тишина.
Дуня провожает его взглядом. Не держит, не спрашивает. Лицо ровное. Странно это: не по её характеру. Быть бы злости, упрёку – нет. Она, кажется, стала слушать не его шаги, а деревню. Как дышит. Как у кузнеца железо звенит. Как в церкви колокол коротко, с хрипотцой. Как в соседнем дворе у Арины куры шумят без причины. Словом – жизнь. И будто ждёт, когда эта жизнь сама подскажет, куда смотреть.
А деревня живёт и настораживается. В кадках бродит репа
, в печах сохнут лапти, под тыном щебечет поздняя синица – сбилась, худая. У заборов треплются тряпицы, на веретенах ложится свежая нить. И поверх всего – тихий гул имени, которое никто не произносит вслух. Не из страха – из опаски нарушить зыбкое равновесие, пока всё ещё держится.
К вечеру в кружечном дворе два мужика спорят, раскрасневшись: один твердит «сам на вилы», другой шепчет «не без руки». Третий, едва войдя, прикладывает палец к губам: не шуми, мол. И по всей деревне – та же нота: ежедневность, в которую примешали щепоть незримого. Хлеб всё тот же, да вкус иной.
Тур-охотник возвращается поздно. На дворе темень, двор гудит пустотой. Дуня сальную свечу прикрывает ладонью, чтобы не коптила, и глядит, как он снимает армяк, развязывает ремень. Он молчит. И тишина между ними не ссора, а как недосказанная история, где не хватает одной главы. Какой – ни он, ни она не знают. Только чувствуют: она уже написана, но пока не прочитана.
А в соседней избе Митрошка снова кашляет. Кашель уходит в ночь, как камушек в колодец. И откуда-то из леса, из-за Камня, приходит короткий порыв ветра, и все в деревне на миг замирают не понимая почему. Потом опять – щи, каша, детский плач, стук оси в телеге. Всё как прежде. Только каждый, поворачиваясь к двери, слушает не ушами – кожей. И не говорит об этом.
Так проходит день. И кажется – ещё один к нему прибавится, ещё один, а там и зима встанет. Но в каждом шаге, в каждом словце прячется то, что называет Фетинья: смерть одна не ходит. И никто не знает – к кому придёт следующая. А Тур-охотник идёт к околице всё тем же шагом: будто вытаскивает из земли след, которого не видно.
Глава 6. Охота
Серым, сырым утром Тур-охотник ушёл в лес. Ноябрь здесь – глухой месяц: птица притихла, белка в дупле сидит, лиса ходом редеет. Работают теперь не столько руки, сколько терпение да глаз. Он шёл знакомой проториной, где в ельнике тянулись его самоловы: тут – петля на русака, привязанная к согнутой берёзовой плётке; ниже – капкан на куницу у осинника; в ложбинке – кулёмка-глухарь, тяжёлый обвал из жердей с щепным спуском, что сработает на лёгкий нажим. Петли мокрые, без следа; капкан пустой; у кулёмки только присыпанный дождём отпечаток – старый. Он пошёл дальше, проверил тенёта на «куньей дорожке», подтянул ремешы, сменил приманку: кусок сушёной рыбы, чуть смолой подкоптил, чтоб тянуло «вкусно».
В распадке снег взял коркой – ночной наст прихватил, но не держит: нога рвёт ледяную плёнку, хрустит тихо и зло. Он думал, когда уж лёд стянет крепко, на лыжи с камусом станет – тогда и ход другой: мягкий, кошачий, а скользь идёт навстречу сама. Камус на подшив – конская или лосиная шкура с волосом – держит от отката, а вперёд скользит, хоть по уклону, хоть по насту – дед любил так ходить – тихо и далеко.
За ельником, у бурелома, взял его нос – не звериный дух даже, а тишина иная. Обочином, через валежник, нырнул в низинку – и нашёл вход: вход узкий, влажный, тесный, обжатый землею, как щель, что сама себя стережёт. Кромка мха блестит, будто от тайного пота, и в тёмном овраге корни свисают нитями – словно волосы, спутанные, прилипшие к краю. Там – прохлада живая, влажный вздох. Берлога. По времени – самое то: бурый уже лёг, к зиме узнастись хочет; к этой поре пустеют тропы, а у нор – чисто (старики ровно так и говорили). Тур сел на корточки, послушал. Шума нет, только гулкая пустота в самом нутре, как в бочке. Он не полез. Обошёл кругом – смотрел, не приметится ли «дых», не отдаст ли щёлочкой тёплым, – и отступил.
К полудню развёл огонь кресалом – трут из трутовика раздувает не сразу, сырость въелась, но пошёл огонёк, вода в котелке коротко вздрогнула, чай вышел терпкий, с хвойной горчинкой. Ел постыло – кус хлеба да корочку сыра, которые Дуня с утра кинула в торбу. И снова пошёл. Он искал зверя – да не зверя. Глаз цеплялся за повал, за омшар, за узкую тропку в чаще, где иногда, по весне, человек себя бережёт от веток. Внутри жило другое: насторожка. Не сказать зачем, а всё равно ищет.
К вечеру – в деревню. Дым низко, печной угар, кисло пахнет капустой – квасят во всю: кадки на завалинках, доски мокры, слеги липкие. С выгона собаки лениво тявкнули – и смолкли. Тур завернул к Устинье. В избе стылый пар да кашель, тот самый, рвущий, как гвоздь по доске. Митрошка худ, виски мокрые, губы треснутые. Тур сел на край лавки, ладонью – ко лбу: горит.
– Держись, – сказал негромко.
Мальчишка кивнул и вдруг, не глядя, будто сам с собой, сипло вытолкал:
– Отдать… Лесной…
– Что – отдать? Повтори! – Тур нахмурился.
Но Митрошка уже свернулся, кашлем забился, и из тряски той ничего больше не вышло – только шепоток и Устинья, суетливая, платком горло ему подвязывает, шепчет: «Полежи уж… полежи…»
Сумерком он вошёл в свою избу. Дуня у печи – рука сильная, широкое плечо под рубахой, прядь к виску липнет. На столе – каша, хлеб, кринка кваса. Тур молча сел. Дуня глянула прямо, без пряток:
– Зря ищешь. Нет её.
– Откуда знаешь? – спросил он, не поднимая глаз.
– Знаю. – Она вытерла руки о холст, у печи остановилась, слегла тень от плеча. – И не ищи.
Он не ответил. Ел молча, слушал, как в углу лапоть сохнет, потрескивает, как в печи дрова оседают. А в голове – моховая темнота берлоги и пустота внутри неё, не звериная. И мальчишкин шёпот: «Отдать… Лесной…»
Глава
Глава 7.
Карачун
Ночь Карачуна – самая чёрная в году. Солнце умирает, силы нечистые прорываются в мир людей, и всякая тварь бестелесная шатается меж изб, ищет, где бы зацепиться. В эту ночь все знак и все – дурной: собака завоет, корова тревожно замычит, птица под крышей крылом забьёт. Хлеб в этот день не режут, ножи прячут, чтоб не накликать беду, и за порог лишний раз стараются не ступать: кому знать, что там, за тёмной межой.
Среди этой тягучей тьмы, стояла деревня – словно остров, окружённый со всех сторон как водой, чёрным морем леса, в котором бродили голоса да шаги, которые не надобно слышать. В каждой избе теплились огоньки: тепло настороженное, не для уюта – для защиты. Люди знали: нынче Солнце мертво, под землёю лежит, и никто не ведает, возродится ли вновь. Потому свет в избах – как обет, как страж у порога: погаснет – и тьма возьмёт своё, войдёт без спроса, застелет дыхание, душу стянет.
Дети шёпотом тянули за рукав: отчего окна заткнуты тряпьём? Матери отводили глаза, только перекрещивали пламя в лучине; а отцы хмуро молчали, будто понимали: стоит дрогнуть огню – и не утро придёт, а вечная ночь. И сама деревня, сжавшись в темноте, сидела, как у последней свечи мира, боясь, что её дыханием задушит.
На выгон, где обычно гоняли скот, вынесли солому. Парни, стесняясь собственной важности, подожгли – и в тёмное небо взметнулись искры. Пламя рыже облизывало мороз, щёлкало сухими сучьями, и казалось: звёзды на миг стали ближе, как зерно в сите. Тут же притащили старое колесо – водружённое на жердь, его крутили, чтобы «солнцу помочь поворачиваться», – пели вполголоса, а бабы, не глядя, крестились: не шутка ночь нынче, длинная, на дне её ходят те, что из Нави, и слово не каждого человека сегодня – человеческое.
Словно некстати, вывалился на огонь Игнат, дружка бывший Охотника, уже с полудня поддатый. Плечо косит, шапчонка набекрень, на усах инец искрится, а голос скрипит, как не смазанный ворот:
– Эх, глядите-ко, ночь-то нынче Карачунова… – и, присев к пламени, добавил гадливо, громче, чтоб всем: – Нашей Лесной теперь раздолье: тьма ей под стать. Не к нам ли, а? Не согреться ли ей возле живого огня, чтоб, значит, глянуть – кто тут посмелее?..
Пара парней хохотнула, дески – «тсс!» – да перекрестились разом, так что огонь на миг дохнул в их ладони, как зверёк. Кто-то буркнул: «Не поминай в ночь такую…» Но Игнату только этого и надо, пущай щекочет: злое слово да по длинной ночи – вкусно.
Вертлявый, тонкоплечий, с прищуром всегда насмешливым, он первым заметил Тура.
– А-а, охотник наш! – выкрикнул, вытянув шею. – Гляньте-ка: пустой опять! Не то зверьё нынче хитрее стало, не то сам в силки запутался.
Смехом ответили ему, но не громко – каждый на Тура косится: высокий, тяжёлый, с лицом будто из камня, не к доброй шутке. Раньше Тур на эти выпады рукой махал, усмехнётся – и дело с концом. Но Игнат теперь будто знал, куда колоть.
– Аль всё в лесу у ведьмы силы оставляешь? – хохотнул он грязно. – Оттого Дуня твоя и не отяжелеет, что не мужской ты к ней дорогой ходишь. Всё баба та лесная тебя высосала, вот и пустой в избу возвращаешься!
Тур молчал миг, дыхание в груди гулко стукнуло. В круге вдруг стало тесно и тихо. Даже огонь словно осел, только потрескивал сухой сучок.
Игнат подскочил ближе, вытянулся, чтоб равным стать.
– Ну что, охотник? Правду говорю?
Тур шагнул к нему, схватил за ворот, сжал так, что ткань затрещала, но не ударил. Держал, пока глаза Игнатовы не дёрнулись. Потом толкнул прочь, будто пса дворового.
– Ты, Игнат, храбрец перед девками да костром. А в лес пойдём – где твоя удаль? Там не бабьи уши слушают.
– Пойдём! – взвизгнул Игнат, уже сам загнав себя. – Вот завтра и глянем, кто в лесу смелый, а кто лапоть.
– Завтра, – повторил Тур насмешливо. – Там и проверим, чья сила, чья трусость.
Смех снова прорвался в круге, но смех не веселый – с оглядкой, с хмурью. Тур отвернулся, отошёл от огня. В груди жгло, во рту словно привкус гнилого яблока остался. Словно что-то скверное он проглотил и теперь не сплюнуть, не выдохнуть.
Обойдя выгон, дошёл до своей избы. Поднял руку к двери – и в ту же самую минуту петли жалобно вскрикнули. Скрип вытянулся тонкой струной, будто кто-то невидимый провёл ногтем по душе. Дуня вздрогнула так, что из её рук выскользнула крынка с молоком. Белая струя брызнула на пол, расползлась по доскам.
– Вот, – прошептала она, не глядя на мужа, – это к худу. Скрипит, коли хозяина дома всё нет… Ты, Тур, беду с собой в дом ведёшь.
Тур молча кивнул – и в словах Дуни признал правду. Уходил он часто, будто изба для него не пристанище, а место, где ночь перебыть. А Дуня… Дуня держала порядок, как заведено.
К Карачуну всё у неё соблюдено: клочки снега к порогу – «Мороза накормить», уздечки для скота крест-накрест – «чтоб злые не развязали счастье», в углу тянулись два огонька – не простые сальные, а восковые свечи, припрятанные нарочно для этой ночи. Чистая скатерть ровно застлала стол, будто сама земля снегом укрылась. На блюде пироги с маком, зерно во тьме ночи силу держит. Горшок с гороховой кашей – к сытости и крепости. А рядом кувшин узвара – из сушёных яблок да груш, пахнет дымком и осенью, как бы связывает ныне живых с теми, кто уже под землёй. Репа печёная румянцем светилась, словно тёплый свет подземного солнца. Мёд в миске густо блестел, как хмельное напоминание, что зима не вечна. Всё это не для утехи, а чтоб ночь сдержать, не пустить тьму за порог, чтоб каждое блюдо стояло, как оберег.
Дуня осторожно поднесла к Туру ладоням кувшин узвара, горячий и тёмный, из сушёных яблок и груш, настоянный с мёдом и тёмными ягодами. Тур прищурился, как охотник, что смотрит вдаль: тонким паром подымался аромат – сладкий, запоздалый, но тревожащий. Он сделал глоток – и замер. Во рту разлилась едкая горечь: не то сладость сбродила, не то сушёные фрукты сгорели, не томлённые, – острый привкус, как рана, протекшая через язык.
Он выплюнул чуть было не сразу – и Дуня отшатнулась, лицо потемнело. Она будто вспомнила что-то: что в спешке, забыв, бросила в узвар ягоду брусники – прошлогоднюю, пересушенную, с полки в чулане. Ягоды хрупкие, шелушащиеся, и от них вся сладость перебилась. Тур, молча, убрал кувшин. Упрёк его не звучал вслух, но в ее взгляде было тихое принятие: да, ошиблась. Но хуже горечь – если бы не вошла темнота в напиток, не вкралась в дом сквозь неровно закрытую дверь.
– Не так сварен, – сказал он наконец, ровно, – в следующий раз справнее выйдет.
Некоторое время ели молча: лишь скрип ложек да потрескивание свечи нарушали тягучую тишину. Тур потянулся за пирогом, потом поднял взгляд:
– Что ж Устинью не позвала, по-соседски?
Дуня вздрогнула, но ответила сухо, не поднимая глаз:
– А к чему? Заразу в дом тащить. Да и не смогла бы она – Митрошка совсем плох, уж и не поднимается.
Тур хмыкнул коротко, почти сердито, отставил ковш.
– Собери чего, – бросил через плечо.
Взял узел с хлебом да горшочек, что сунула ему Дуня, и вышел в ночь. Свеча дернулась от сквозняка и на миг осветила её лицо – суровое, упрямое, будто сама себе доказывала, что правда ее.
Печь у Устиньи дымила, но в избе всё равно было холодно: холод от болезни – иной, не печным жаром берётся. Митрошка лежал, лёгкий, как соломенный куколь, и дышал порывами, будто его тянули со дна. Кашель, сухой, со скрипом, раздирал грудь; в паузах между толчками слышалось, как тёмная ночь шевелится в оконной раме. Устинья сидела рядом, губы обожжены молитвой, пальцы синие от холода, и в её взгляде – то зрячее терпение, какое бывает у тех, кто уже понял без слов. Тур присел, положил ладонь мальцу на лоб – огонь под кожей. Тихо сказал:
– Держись.
Мальчишка глянул на него издалека, как с другого берега; губы тронула улыбка – будто он увидел кого-то своего, давно знакомого. И едва слышно, выпуская воздух:
– Отдать… Лесной… долг…
Последнее слово слетело легче остальных, как снежинка, и тишь стала иной: не пустой – остановившейся. Устинья мотнула головой, прижала мальчишкину руку к щеке, зашептала вперемешку молитвы и простые слова, какие говорят, когда слов больше нет.
Тур сидел до конца, пока длинная Карачунова ночь не свернулась к утру. Знал – так положено: с таким дыханием не спорят. Он слушал, как где-то вдали потрескивает на ветру ограда кладбища, как по щели под порогом тянет звёздным холодом, и как в печи шёпотом оседают угли – будто сам свет экономит силы, чтоб дожить до рассвета. Он не молился – просто был рядом, как бывают рядом в лесу, когда зверь ложится и больше не встаёт. И, может быть, потому мальчишка улыбался – словно в долг отдал ему самую последнюю, лёгкую долю своей боли.
Когда всё стихло, Тур поднялся. Ночь ещё была, но уже светилась изнутри тусклым стеклянным мраком, предрассветным; и в этой стеклянной тишине вдруг остро почувствовалось: граница пройдена. В деревне погасят огоньки, снимут с лавки лишнюю ложку, сметут с пола мак и зёрнышки, разотрут следы ночных слов – а Карачун уйдёт, оставив в избах пустоту размером с человеческое сердце. И от этой пустоты Туру стало зябко, как будто в груди завёлся маленький зимний сквозняк.
Он вышел во двор – снег скрипнул тонко. По деревне шёл едва заметный гул: где-то в сенях роняли ведро, где-то стукнули о косяк, где-то дверная доска отозвалась глубоким басом – ночь отзывалась самой себе. На выгонной яме догорал костёр, колесо для солнца притихло, припорошенное инеем. С неба сыпался сухой, почти невидимый снег – как мука из старого сита. Тур постоял, глядя, как белое садится на рукав, и подумал – без слов: ночь прошла свой круг, сегодня что-то родилось и что-то умерло. И, может быть, это одно и то же.
Глава 8. Сон
Тур вошёл в избу тихо, чтоб ни одна половица не подала голоса. Тьма стояла густая, только угли в печи дымились красноватым дыханием. В этом полумраке угадывались очертания: на лавке, сбившись в клубок, сопел Прокоша; ближе к печи – постлано сено, поверх рогожа, шуба, и там, на тепле, дремала Дуня.
Охотник шагал осторожно, чтобы не скрипнула половица. Снял кафтан, склонился – почувствовал её дыхание, тёплое, ровное, как у человека, что весь день работал и от усталости спит без сновидений. Лёг рядом, натянул на себя полушубок, повернулся к стене. Печь дышала жаром, но не грела – внутри у него холоднее, чем за окном.
В сон провалился мгновенно, как в прорубь.
Тьма – рот. Широкий, мясной, сырой. Дышит в лицо – тухлым, тёплым, сладко-гнилым.
Как будто мёртвая грудь, ещё тёплая, подалась к губам.
Мох – скользкий, как кожа под потом. Корни – жилы, набухшие, пульсирующие. Сырость – не вода. Гной. Кровь. Скисшее молоко. Запах бьёт в горло – тошно, сладко, липко.
Внутри – не пусто. Шевеление. Слипшийся ком. Старая плоть. Гниющая, но не умершая.
Тьма, что жрёт тьму. Пьёт из страха, сосёт из болезни, хлебает смерть.
И Тур слышит: пьёт его. Каждый вдох. Каждую жилку тепла. Сердце сжимается – будто уже не в груди, а там, внизу. Бьётся в чужой утробе.
Качает. То вверх. То вниз. Не колыбель – череп. Не матка – могила. Но голос – как материнский. Ласковый, липкий.
– Сними кожу.
– Сними имя.
– Вернись.
– Растворись.
И он ползёт. Грудью в чавкающий мох. Лицо в тёплую грязь. Язык чувствует вкус железа.
Зубы скрипят о камень, как о кость.
Руки исчезают. Тело – вода. Кости – ил. Он тает, втекает внутрь.
Щель захлопывается. С хрустом. С визгом. Как челюсть. Как пасть. И в миг – темнота впивается в горло. Холод рванул в грудь. Крик застрял в горле.
Тур проснулся: рывком, в дрожи, в липком поту. Глаза – в темноту избы, дыхание рваное, сердце молотит. На миг – только миг – воздух качнулся и донесся тонкий запах. Горький. Полынный. Будто прошёл кто рядом, едва коснулся.
И исчез. Словно не было.
Тур вслушивался. Тишина. Только печь треснула угольком. Только собственное дыхание.
Дуня прижалась к нему. Со сна разопревшая, вся тёплая, пахнущая домашней бабой: кислым молоком, луком, потом. Волосы – чуть влажные на висках, прилипли к коже, щекочут. Изо рта – сонное дыхание, тяжёлое, с хмельной кислинкой, будто хлебный квас перекис. Глаза полуприкрытые, с мутной дымкой сна, и в них мягкая, тянущая нежность. Её руки обвили его шею, крепкие, привыкшие к коромыслу. Она вся тянулась к нему, теплом, кожей, дыханием – словно хотела вобрать в себя.
А ему – тошно. То ли от сна, что ещё не отпустил. То ли от неё самой. От этого запаха пота и молока, от влажных волос, от мягкой тяжести тела. Будто что-то липкое снова навалилось, снова давит, снова зовёт внутрь.
Аккуратно, тихо, почти незаметно он вывернулся из её рук: осторожно, чтобы не разбудить до конца, чтобы не взглянуть ей прямо в глаза. Сел на край лавки, почувствовал, как холод пола подбирается к ступням.
Не одеваясь, босой, с голой грудью, с плечами, на которых ещё держался сон, шагнул к кадке. Зачерпнул ковш браги – полный, тяжёлый. Хлебнул жадно, горло прожгло кисловато-горьким, захлестнуло. И, держа ещё влажный ковш в руке, толкнул дверь.
Холод зимний полоснул сразу, как нож. Лютый, сухой, звенящий. Он вышел, как был, раздетый, на крыльцо. И стоял – грудью в ночь, в глухую тишину, где только снег потрескивал да из трубы тянулся тонкий дым. Воздух был резкий, с запахом угля и инея.
От голого тела вставал пар, от дыхания валил густой туман, сразу белый, тяжёлый, будто он выдыхал саму зиму. И казалось: лучше уж это – холод, пустота, ночь, чем то, от чего он только что ушёл.
Утро накрыло деревню, как тяжёлый котёл, полный гулкого шума, запахов и людской суеты. Избы открывались одна за другой, словно пасти, из которых вываливалась жизнь: кто с вёдрами, кто с ухватом, кто с криком на ребятишек. На снегу, ещё сером от утренней темноты, копошились люди – каждый спешил, каждый что-то нес, кто полено, кто кочергу, кто ведро воды, и отовсюду доносились то стук, то лай, то звонкий скрип саней по насту.
Всё это было похоже не на обычное деревенское утро, а на какой-то ярмарочный бедлам – но с одним, тягучим, чёрным привкусом: готовились к похоронам. Митрошка лежал мёртвый, худой мальчонка, которого всё жалели, но жалость была простая, деревенская, недолгая: помрут – и ладно, у каждого своё. А между тем в каждой избе перемигивались: «Не к добру, ой, не к добру. Один – на вилах, другой – в гробу». И слова эти, сказанные полушёпотом, жили в воздухе, как дым.