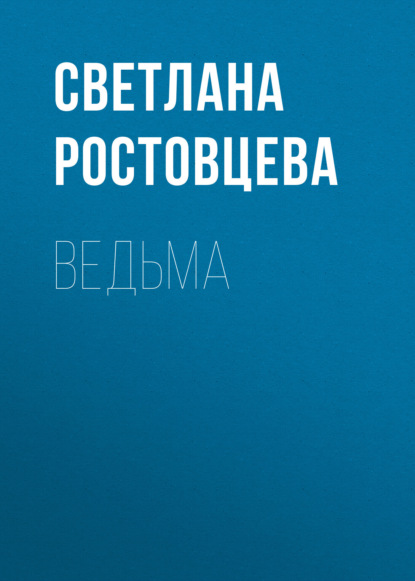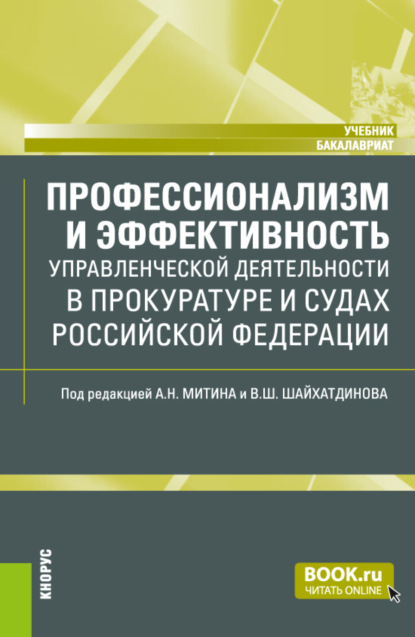- -
- 100%
- +
Тур сидел в сенях, натягивал сапоги, и всё нутро рвалось вон. Ночью он уже простился с Митрошкой – тихо, без слов, глядел в серое лицо, дотронулся до руки – ледяная, чужая. Сжал пальцы, отпустил: больше нечего держать.
Тянуло в лес, туда, где холод, где тишина, где снег хрустит под ногой как кость, где нет ни голосов, ни запахов похоронных, только звериная тропа и следы, что ведут вглубь. Игнат ввалился в сени, будто с ярмарки: плечом в косяк, сапогом по полу грохнул, чтоб гул пошёл. Рожа красная, как жбан кваса, а глаза мелкие – шнырь-шнырь, ищут, где бы спрятаться.
– Ну что, Тур! – гаркнул он, так что даже кошка из-под лавки шарахнулась. – Пора! Мужики ж не баба – слово сказали, держи!
И грудь вперёд колесом, руку на пояс, а сам в этот миг краешком пальцев лоб чиркнул – крест, да так скоропалительно, будто мошку сгонял. На Дуню скосил глаз – мол, смотри, какая удаль, а сам в усах весь мокрый, губа дрожит, дыхание сипит, как меха дырявые.
И тут же сапог на пятке съехал, заскрипел. Игнат поддел носком, заматерился сквозь зубы:
– Чёртово… – и глянул так, будто сам нечистый под каблуком сидит. Подтянул, пнул, да ещё пуще покраснел, чтоб никто не догадался, что ноги у него, как у перепуганной кобылы, дрожат.
Но куда денешься? Вчера ж при девках выпятился: «Я, мол, первый в лес пойду, хоть там сам леший на пороге!». А нынче – хоть сгинь, хоть в яму. Слово-то сказано.
У Тура в груди дрогнуло облегчение. Да, идти. Уйти. Словно кто-то отвязал цепь с шеи.
Дуня же подорвалась.
– Куды! – ахнула она, хватаясь руками то за косяк, то к самой себе. – Один с утра хмелен, другой с ночи ещё пьяный… И в лес!
Тур поднялся, сунул за пояс нож, шапку поправил – и шагнул, будто ничего иного не было и быть не могло. Вышел уверенно, скупыми движениями, как зверь, что идёт по своему следу: ни лишнего взмаха, ни лишнего звука. Игнат следом, тяжело дыша, сапогами гремя, плечами размахивая шире, чем надо – спешит, подстраиваясь под Туров шаг, вытягивается, тянется. Один, как зверь в своём лесу, другой – как скоморох при нём, пытающийся идти в ногу.
Глава 9. Игнат
Под вечер снег серый, тяжёлый. Тур идёт, молчит. За плечами верёвка врезалась в ладони, пальцы онемели. На рубленых лапах хвои – Игнат. Тур тянет низко, плечами, как зверь: вдох короткий, шаг скупо, дыхание рвётся белым паром. Спина мокрая, мёрзнет мгновенно, пар вмиг берет инеем.
У ворот уже люди. Кто зябко шмыгает, кто крестится торопливо, кто только глаза в снег уткнул. Толпа лезет ближе, но боится подступить.
Степан вышел первым. Староста. Глядит пристально, без слов, как рубит полено.
– Как оно? – спросил тихо, будто через зуб.
Тур поднял голову.
– С похмелья ступил в железо. Я не уследил.
Толпа вздохнула, как печь провалилась. Игната – в избу. Половицы стонут, дверь скрипит. Кладут на лавку, под ноги – охапку хвои. Капкан снимают. Сначала не идёт, мёрзлый металл тянет мясо, как зуб клещами. Тур подсовывает кол, разжимает дуги. Игнат в этот миг цедит меж зубов тонкий, девичий стон – не крик даже, жалкая струйка. Края раны расползлись бахромой, как порванная рукавица. Кожа синяя у зубьев, между железа – клочок мяса, держится на жилке. Кровь сперва не идёт, потом рывком – тёмная, густая, тягучая. Запах сырого железа и хвои. Кто-то плеснул браги, кто-то прижал тряпку. Тур глядит в упор. Лицо камень.
Игната стреножили ремнём, чтоб не дёргался, ногу к лавке прижали. Щёки у него красные, на висках пот, дыхание жаркое, злое. Вроде бы полегчало, только глаза бегают, как мыши. Женщины шепчутся, мальчишки тянутся на цыпочки, старики качают головами: железо закусило – плохая примета.
Ночь пришла – тяжёлая, вязкая. Снаружи треснул мороз, а в избе душно, пахнет брагой, хвоей, кровью. Игнат лежит, губы побелели, шуток у него нет. Спит клочьями, просыпается руганью, просит пить, потом шепчет, что во сне его кто-то тянет в темноту, где тесно и зубами скребут.
Дни пошли. Вначале вроде бы лучше. Рана туго, тянет, вокруг потемнело, распухло, ломит до паха. На третий день заметили: рот не открывается как следует. Зубы свело, губы распяли, и лицо его вытянулось в злобную усмешку – не людскую, а звериную, в которой жила одна лишь мука. Челюсть свело – пальцем не разжать. Глотать тяжело, воду пьёт по капле, давится, кашляет. Каждое слово как через жмых.
К вечеру – хуже. Спина деревянная, шея не ворочается. Вдруг дернёт всем телом так, что лавка подпрыгнет. В избе шорох – детишек выгнали, лампу прикрыли тряпкой. Любой звук, любая тень – и Игната гнёт дугой, пятки в доски, затылком в стену, зубы звонят, слюна тянется ниткой. Его ломает, как лук тугой: это когда тело само себе стало арканом. Дотронься – и снова судорога, шепни – и опять бросит. Так оно при этой хвори и бывает: малейший свет, стук, слово – и сгибает, будто невидимый кнут хлещет. Нет у тела больше власти над собой: то оно камнем станет, то дугой, то вздрогнет, как лошадь под ударом.
С каждым часом у него пот градом, жар жжет словно угли под кожей, сердце бьёт как молот, лицо вытянулось в злую маску, глаза – острые, чужие. Губы растянуло в оскал, не то улыбка, не то звериная гримаса – будто чужой рот надели. Жевать нельзя, язык деревянный, слюна идёт непрерывно.
Ночью его скрутило особенно. Сперва тихий свист из горла, потом рывок – и весь стал струной. Рёбра не ходят, грудь не поднимается, как если б невидимая ладонь держала. Ещё миг – и синева под скулой, ногти белые. Тур понимает: не воздуха не хватает – горло заперло, а грудь зажало, и дышать негде. Так эта хворь и губит: то горло схватит, то грудь, то живот камнем, и человеку нечем вдохнуть, и он мелеет, как свеча на сквозняке.
К утру немного отпустило – но только чтобы снова навалиться. Корчь будто чаще, короче, злее. Пот ручьём, сердце срывается в топот, жар, холод, жар. Старики шепчут: дурная сила. А в правде – хворь из раны пролезла в самое нутро и там оборвала вожжи. Вот и мчится тело без управы: то гнётся, то ломается, будто конь, что сорвался с рук.
День третий. Игнат уже не узнаёт. Свет ему злой, шёпот злой, тишина тоже злая. Дотронься – и ломает. Даже когда не ломает – стонет, через зубы свистит. Рот не раскрывается больше пальца, вода не идёт, язык сухой, потрескался. Слюна, наоборот, льётся, захлёбывается, кашляет, опять судорога, опять дуга. Тур сидит рядом, молчит, ладонь держит у груди – считает, как идёт сердце. И вдруг слышит, как будто его нет. Пауза. И снова бьёт – быстро, рвано. Потом опять провал. Это когда у этой хвори не только мышцы сводит, но и нутро шалит: пот, жар, сердце вспугнули, бегает, как заяц, то скачет, то падает.
Вечером его согнуло так, что спина скрипнула. Зубы защёлкнулись, как капкан. Губы побелели, глаза выкатились, взгляд пустой, в потолок. Ни вдоха, ни выдоха. Ноги как струны, пальцы в корче, пятки тонут в соломе. Вся изба замерла. И в этой тишине слышно, как печь дышит и как у Тура скрипит зуб. Игнат дернулся ещё раз – коротко, как щука хвостом, и лёг. Совсем.
Женщины завыли, засуетились, кто-то метнулся за свечой. А Тур сидел и глядел, как на железо. Степан вошёл, кивнул раз. Сказал негромко, будто итог подытожил:
– Отмучился.
И никто не спорил. Знали только: от такой раны, где мёртвое мясо и грязь, часто бывает эта злая теснота тела, что сводит дугой, а умирают чаще всего от того, что горло и грудь хватает, и дыхания не остаётся. И чем раньше её ведёт после раны, тем яростнее бьёт и скорее косит.
Похоронили Игната быстро, даже с облегчением: тяжело уж больно он уходил, и каждый в деревне за эти дни вымотался его стонами, судорогами и тем страшным оскалом, в котором не осталось человека. Когда заколотили крышку, все вздохнули, перекрестились – и больше думать не хотели. Земля промёрзла до камня, долбили её ломами, кувалдами, руки деревенские ледели, у многих кожа с ладоней сошла – но в конце-то концов всё сделали, завалили яму, прикрыли еловыми ветками. Ночь спустилась тяжёлым снежным саваном, и будто всё успокоилось.
Но утром…
Кто первым увидел – не помнили. Говорили: то ли бабы, то ли мальчишки забежали наперегонки. Но все помнили крик, тонкий, рвущий, и потом – толпа.
Могила Игната разодрана. Не разрыта лопатой, не раскопана зверем – а разодрана, словно земля сама выворачивалась изнутри. Ветки разметало, земля в стороны, дерн на клочьях.
И в середине – тело.
То, что вчера ещё было Игнатом, теперь было месивом. Рёбра раздвинуты, выломаны наружу, торчат острыми дугами. Они расходились, как птичьи крылья, – чёрные, лоснящиеся кровью. Из раскрытой спины вытянуты лёгкие: они обмякли, распластались по снегу, слиплись, словно мокрые тряпицы, облепленные кровью. Снег вокруг пропитался, заиндевел, почернел.
Но страшнее всего – пустота в груди.
Там, где сердце, зияла чёрная дыра. Ни органа, ни клочка, ни жилы – словно вырвали начисто. Люди шептали: «Сожрано…» – и крестились, но пальцы на лбу дрожали.
Лицо Игната застыло в гримасе: рот распахнут, глаза выкатились, и казалось – он орёт до сих пор, только звука не слышно. На снегу отпечатались ногти – до мяса обломанные, будто он сам пытался вырваться из собственной кожи.
Бабы завыли, ребятишек уводили, мужики стояли чёрные, молчаливые, зубами скрипели, кто-то в сердцах плюнул на снег, но ближе не подходил. В груди каждого – не жалость, а холод: не от мороза, а от того ужаса, что ни словами, ни разумом не оправдать.
Степан, староста, хмуро спросил:
– Что?
Тур смотрел долго, не мигая. Плечи его ходили тяжело от дыхания, глаза щурились от холода и страха, что он прятал.
– Медведь, – сказал он, тихо, глухо.
И все переглянулись: слово не грело, не спасало, но другого сказать никто не мог. Каждый понимал нутром – не медведь то. Да только признаться было страшнее всего.
Глава 10. В избе у старосты
Изба у старосты – крепкая, широкая. В углу иконы, печь потрескивает. На столе хлеб, квас, брага. Мужики сидят втроём: сам староста, кузнец Гаврила, да Тур. Сели чинно, будто на сходке, но в каждом – тревога.
Степан поднял кружку:
– За Игната, покой, Господи, душу. – И все трое перекрестились, хлебнули.
Он первым и заговорил, глухо:
– Три смерти было. Четвёртая – поджидает. Я эту деревню, как самого себя, знаю. каждая изба мне, как родной палец, каждый двор, как борозда на ладони. Нутром чую: еще будет.
Помолчал, ближе наклонился к столу:
– Три смерти за зиму… Авдей – сам ли? Нынче скажут: пьяный был, на вилы напоролся. А ведь и не скажешь точно… Ночь, мороз, вила острые, да и сам он шатался. А я скажу … – и взглядом повёл, – и не такие пьяные по улицам шли, а не напарывались.
Гаврила, кузнец, бороду потрогал, слова взвешивает, будто железо на весах:
– Авдей… с пьяного дело простое. Но то, что его на вилах нашли – так ли наострено судьбой было? Не всякий нож сам себя точит.
Степан гулко продолжил:
– Митрошка – на Карачун. Сам день тёмный, худой, знак худой. А уж как он бормотал, то ли во сне, то ли в бреду… слова эти, что и повторять не хочется.
Гаврила бороду почесал, нахмурился, голос у него тяжёлый:
– Сказывали старики, что коли дитя на Карачун умирает – не он один уходит. Мост кладёт. За ним кто-то идёт, а кто – неизвестно.
– Известно, – буркнул Староста. – Вчера схоронили. Неизвестно – последний ли.
Тур молчал, глядел в кружку. Степан перевёл на него глаза.
– А ведьма? Осенью пропала. Люди шепчут. Не видать её. Ты, Тур, не ходишь ли?
Тур поднял голову, глаза острые, как нож:
– С осени нет её. Пропала. – Сказал резко, а в груди будто когтем провели.
Гаврила заметил, но промолчал. Степан же ещё пристальней всмотрелся.
– Игнат… тоже, выходит, сам в капкан влез? С похмелья. А рядом кто был? Ты, Тур. – Сказал тяжко.
Тур отодвинул кружку, голос его глухой, злой:
– Зверя я ловлю, не людей. Не моё это – подлостью.
Степан кивнул, сына знал.
Гаврила добавил:
– И то правда. Тур охотник. Лес его знает, зверь его чует. Но всё ж, странно оно выходит: трое – и все не просто.
Снова выпили, помолчали. В избе дыхание скрипело, за окном завыл пёс.
– А могила Игната… – тут Гаврила ещё ниже заговорил, в пол глядя, – то ведь не зверь только. Слыхал я: есть такие, что могилы меняют. Сердце вынут – и душа не к Богу идёт, а в ночи бродит. Шатуном ходит. Без имени. Имени нет – и покоя нет.
Степан сжал кулак.
– Медведь. Шатун. Само то плохо: бес в зверя вошел, к деревне подступил. Но чтоб… сердце сожрал – тут не по-звериному.
Гаврила бороду погладил, вздохнул, перекрестился – не всерьёз, так, на всякий случай, и заговорил:
– Не к добру это, Степан. Слыхал я от стариков, покуда ещё в живых были, что бывало так: мёртвого положат в землю, а земля его не держит. Не принимает. Он и лежит – да не лежит. Сначала тихо, потом глухо стонет, будто корень под землёю ломается. А после и вовсе – вылезет. Не сам – кто-то выманит. Сердце вынут, душу выведут. Тогда и ходит он, шатун без имени, ни живой, ни мёртвый, и к дому тянется, где жил, к людям своим. Ночами в окошки глядит.
Гаврила пригубил, подождал, пока скрипнет в углу, и продолжил, тише, будто шепотом:
– А про сердца… и вовсе страшное молвили. Будто нечистая сила не плотью питается, не кровью даже, а сердцем. Потому как сердце – это и есть имя. Нет сердца – нет имени. Без имени шатун и остаётся, век по веку бродит. Днём его не видно, а ночью сидит он у межи, в канаве, на пне гнилостном. Сидит и скалится, будто ждёт, когда кто мимо пройдёт. И если узнает его, если назовёт по имени – всё, пропал тот человек, сам за ним вслед пойдёт.
Степан нахмурился, хотел что-то сказать, но Гаврила рукой махнул:
– Постой, дослушай. Ещё бабка мне сказывала: случалось, что душами менялись. Один мёртвый – другой живой. Тело в земле, а душа живого туда перескочит, вместо мёртвого. Вот и ходит живой, а глаза у него – как пустая яма, без огня. Это зовётся «смена могилы». Старики таких боялись пуще всего: от шатуна ещё убежать можно, а если смена – то и сам не заметишь, как в мёртвом окажешься.
Гаврила замолчал, перекрестился опять, но торопливо, будто боялся вспоминать лишнее.
– Так что, Степан, – заключил он, – медведь ли то был? Может, и медведь. А может – и то самое, что без имени, что чужие могилы любит. А сердце… сердце – не медведь берёт. Сердце всегда к кому-то идёт.
Тишина легла тяжёлым сукном. За стеной ветер выл так, будто и впрямь кто-то сидел под окном, слушал, скалился. Тур поднял голову и посмотрел прямо:
– В лес пойду. Посмотреть надо.
Степан руку положил на стол, крепко, будто в землю вжал:
– Не пущу. Сын ты мне, один.
Тур не ответил. Только плечи чуть двинулись – мол, всё равно пойдёт.
Степан повторил, ниже, но тяжелее:
– Говорю тебе: не пущу. Не та охота. Смерть рядом ходит.
Тур глядел спокойно, глаза узкие, без злости:
– Некому больше.
Третий раз отец сказал, медленно, уже не голосом, а тяжестью, как крест кладут:
– Сгинешь там, знаю.
Тур от этого слова не отшатнулся. Словно услышал, но будто и ждал. В глазах у него – не упрямство даже, а тоска и голод, что только лесом утолить можно. И видно стало: не то чтоб хочет туда – а иначе жить ему всё равно некуда.
Молчание нависло. Пламя лампады дрогнуло, в углу тень качнулась, будто слушала. Гаврила долго молчал, глядел то на Тура, то на Степана. Словами не спешил, будто из глубины их вытаскивал. Наконец заговорил:
– Пусти его. Зверь он сам. В лесу – своё возьмёт.
Помолчал, ещё раз бороду провёл ладонью, добавил глухо:
– Всё одно не удержишь. Лес его уже держит.
Глава 11. Утро
Утро вышло хрустким, как свежий лед на корыте. Небо низко, бело, будто мукой припорошило мир до тишины. В избе стынет лучина, пар изо рта клубится, как дымок из щели. Тур встал – и всё в нём встало: решенье, дорога, лес.
Сначала – молча к лавке с железом. Рогатина лежит, как жердь, но не жердь: древко еловое, гладкое от рук, тяжёлое, надёжное; на конце – широкая железная лопасть, не копьё – ластов хвост, чтоб не прошибить сверх меры и чтоб зверю по древку не взобраться, не достать грудь. Держит Тур её так, как держат слово: обеими, мерит локтём, примеряется – куда вес уходит, куда ладонь сядет, где плечо встанет. Рогатина – старое, древнее оружье; так ходили на зверя ещё деды, так и теперь пойдут, когда ружью веры мало, а дело – в упоре, в одной секунде, где или ты, или он
Рядом – самопал. Не барское чудо, не диковина городская: простое длинное ружьё с кремнём, опалённым курком, с полочкой под порох. Тур ладонью ведёт по ложу, проверяет – кремень сидит, полка суха, затравка в кожаном кисете не отсырела. Для медведя ружьё – что первый гул, первый укол, а держать стой – всё равно рогатина. Грохнул – и стой, не дрогни: зверь, если не пал, рванёт в грудь, тогда и решится.
Шнурки-ремни, нож – не тесак, охотничий, узкий, как язык, острый до звона; топорик короткий – не колун, но чтоб ветку срезать, лёд подрубить, буртик у берлоги надорвать. Кисет с дробью и порохом, холщовые пыжи, кремни запасные, фитиль – на всякий: не доверяй одному огню.
Потом – лыжи. Не те, что по ярмарке для красоты: лесные, тяжёлые, как полено, широченные, с камусом снизу – лосиным, конским, чтобы назад не отдавало, чтобы снег брал тихо, мягко, без визга. На такие не катятся – на них ходят, как на лапах звериных: шаг глухой, верный, без суеты. Тур пальцем проводит по камусу – ворс ровный, не ободрался, ремни целы.
Свитка грубая, под нею рубаха сухая; онучи потуже, рукавицы бараньи – но пальцы всё одно стынут: охота согреет. Шапка низко, чтоб не резало уши. За пояс – рожок сосновый, собачий зов. Нет у него нынче лаек – не взял, не к лайной охоте идёт, не гнать ему зверя людской толпой; но рожок – на всякий, вдруг поманит деревенского пса, вдруг судьба свистнет.
Пока Тур собирает, тягучий сон из ночи, как дым из-под пола, лезет в голову. То дёрнется – и поползёт в глаза чернота, тёплая, с прелым духом, с мягкою тягой внутрь. Вспыхнет – рот земли, влажный, мясной; шевельнётся – корни-жилы, мох-кожа; хлюпнет – кровь-сыроежка на губах. И голос без рта, нутряной, женский ли, звериный ли – не поймёшь: «Внутрь…». Тур шевельнёт плечом, чтоб спало. Не время снам.
За спиной шуршит Дуня. Не плачет, не орёт – дышит часто, как после бега, но тихо. Пахнет домом – молоком тёплым, луком вчерашним, парной баней, и всё это хорошо бы, да нутро у Тура сжимается, будто кость в тисках. В глазах у неё – мутный утренний страх, как вода в лунке: и видно дно, и страшно глядеть. Она шепчет несвязно – не удержать, не уговорить, хотя б слово хорошее в дорогу, хотя б крышку печи трижды стукнуть, чтоб беду отвадить. Её руки тянутся поправить ему пояс, шапку, – Тур отстраняется мягко, без злости: не надо.
– Рано, – только и молвит он. – Надо.
Она кивает – и всё равно не понимает. Женщинам такая охота всегда тихий мор: уходишь – будто в землю.
В сенях темно, иней по гвоздю серебрится. Тур ставит лыжи, ремни натягивает, проверяет, как нога походит. Приседает, подбирает рогатину: конец древка в пол, лезвие вниз, к ноге – так держат, если зверь в лоб. Движения у Тура короткие, экономные, звериные: всё лишнее – во вред. Где берлогу возьмёшь – под сомнением, где шатуна встретишь – совсем худо. Шатун – это не спящий хозяин леса, это бродячая беда, голодная, злая, глаза провалились, мордой трясёт от пустоты. Такого не сманишь, не уймёшь, назад не отступит – пойдёт. Идти на шатуна – как шагать на дрожь в земле.
Тур ещё раз тоску выдохнул и стал собирать себя, будто уздой: ружьё – за плечо, рогатина – в руке, нож с топориком – к поясу, лыжи – в снег. На пороге притормозил – вслушался. Дворы молчат; только где-то дальний пёс переспросил ночь. Ветром тянет еловым дымком, и где-то в глубине, словно на дне колодца, шевельнулось: «Внутрь…». Он зубами поймал дыхание – сбил.
Митрошкин голосок – вдруг рядом, будто мальчишка живой в сенях шмыгнул: «Не ходи… там тесно… там зубы…». Тур, не оглянувшись, втянул холод поглубже, чтоб спал голос. Митрошка своё уже сказал – ночью, на Карачун. Теперь иное время.
Он выходит. Снег скрипит низко, толстым голосом. Первые шаги на лыжах – тяжко, потому что всё хозяйство на плечах, каждое железо звенит памятью: у рогатины – старой кровью, у топорика – смолой, у ножа – холодом. Тур идёт вдоль сарая, минует омшаник, вдоль плетня – к опушке, туда, где тропа его, чёрная, как жила в снегу. На каждом шаге проверка: стопа держит, лыжа слушается, рогатина не задевает колено, ружье не лупит по лопатке. Всё на месте – значит, жив.
Дуня стоит у порога, проследила до изгороди, потом пропала – в избу ушла, да не ушла: стоит там же, спиной к теплу, лицом к морозу. Она шепчет под нос, путано, все бабьи заговоры в кучу: про соль, что на огонь, про нож, что в пороге, про платок, что на икону. И всё это, как вода в решете. Но у Дуни так: не сделать – будет хуже.
Тур проходит первые сосны и уходит в полутень леса. Лес зимний – глухой, как колокол. На лыжах шаг враздумье: не торопись, не вязни; пятку мягче, носок – живой. В тальнике следы – ночные, свежие, из-под насту тёмный пух вышел: лисица ли призадумалась, заяц ли перевалил, а вон – тяжёлые, как кулак, размытые, – медвежьи? Нет, шире надо, да и шаг другой. Медведя след зимой – редкая вещь; у шатуна – тороплив, сбивчив, как у пьяного, то к стогу, то к свалке, то к мёртвой скотине; у спящего – нет следа вовсе, только берлога дышит, да инеем «окошко» затянет, где дых-выдох звериный на снегу круглеет.
Тур держит ухо настороже. Если берлогу брать – одно: подкрасться снизу, в полветра, срубить мешающее, грохнуть в ухо – и стой с рогатиной; если выгнал – другое: на лыжах вдогон, не давать уйти, ни собакой, ни криком, дыхание беречь, чтоб не качнуло руки. Так учили, так промышляли: один гудит в ствол, другой с рогатиной держит на упор; а коли зверь бросится – левым плечом подать, древко у ноги, жало вниз, чтобы принялся, чтобы сам себя насадил, чтобы дальше не пошёл.
Сон опять накатывает, как туман меж стволов. В глаз вздувается чёрный круг – не провал, не яма: лоно. Мох – тёплый, влажный, пахнет молоком с кислинкой гнили. «Обратно», – шепчет безголосый. Тур резко меняет ход – влево, в наст, как будто это – и есть ответ сну. Лыжа скребёт корку, рогатина поскрипывает в рукавице – и сон спадает.
Он идёт «на чуе»: где ветер, где ложок, где промоина, где берлоги любят – в старом ветровале, под корневищем бурелома, в ельнике глухом, где снег как пух. В такие места зверь ложится, чтоб его ни снег не давил, ни вода не подмыла, ни глаза людские не достали. А шатуна искать – по чужой беде: к падали он тянется, к скотской яме, к навозной куче возле двора, к мёду, что в улье забыт, к овсяному стогу; и всегда – по запаху дыма, где человеческое живёт.
Пока Тур идёт, деревня не умолкает в нём: Дунин шёпот, Прокошин тоненький страх, Степаново «не пущу» – трижды сказанное, как три скрепа на крышке. Он их несёт, как железо, но железо это не звенит – греет спину. И ещё – тяжкий, в горло упирающийся знак с утра: полынь – мгновенно, тонко, словно кто-то прошёл рядом и не коснулся, а воздух после него стал горче.
Он останавливается у елового увала. Снизу – тишина; сверху – ни птичьего «цвир», ни скрипа сучка. Снег тут дышит иначе – воронкой. Тур присел, ладонью снег ощутил – под пальцем твердее, у кромки мягче. В центре – крошечное «светло» инеевое, будто стекло запотело и снова смерзлось: дыхание. Берлога. Не свежая ли? Но кругловато «окошко», не разодрано, не смято – значит, зверь внутри, не шатун; эти бродягой шляются, не лежат. А на шатуна и идёт.
Тур не рубит, не шумит. Обходит полумесяцем, чтоб ветер в спину не принёс человеческого. Ружьё – чуть вперёд, рогатина – вниз, древко к бедру. Два шага, три. Снег раз – и скрипнул. И в ту же секунду из сна – не голос, а тянущее: «Внутрь». Тур стискивает зубы, будто пробку в сосуд – чтоб не пролилось.
Он не берёт эту нору. Не время. Если хозяин – выйдет не сейчас, и не то ищем. Шатун где-то между лесом и деревней – середняк, ни свой, ни чужой: там его дорога. И Тур разворачивается – к логам, к старым пасекам, к овсу, к заста́вам у села. Там смотреть.
Лыжи словно сами знают тропу. На пригорке – примятая кромка снега, раздол: следы – не чёткие, широкая пятка, шаг сбивчивый, пухом присыпан; возле валежины ковырял – кору сгрыз; дальше – к речному обрыву спуск, там лёд потемнее – шёл. И у стога – рвань соломы, брыжики чёрные: копал, жрал. Вот это – его. Шатуна дых.
Тур останавливается, прислушивается к тихому миру. Мир дышит – и не дышит. Звук издалека – как будто шкурой об ствол шевельнули. Елька тонко звякнула льдинками. Он протягивает ладонь – ветер сух, еле-еле, от деревни – дым, солома, и где-то глубже, как горькая нитка в мёде, – полынь.