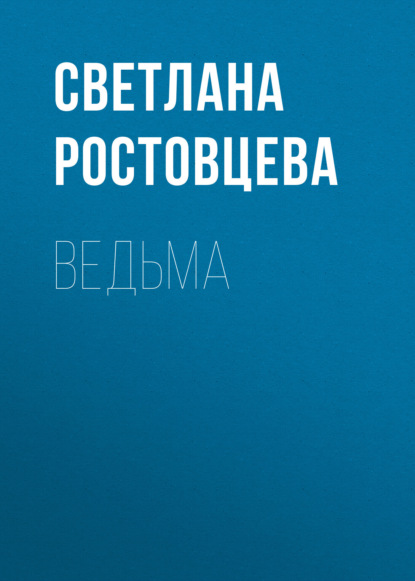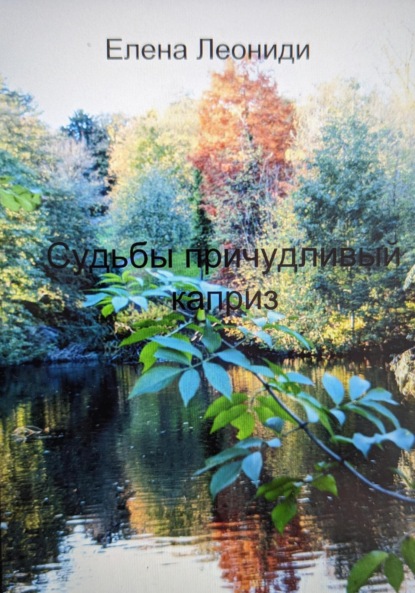- -
- 100%
- +
Дунин страх и Митрошкин голос отступают, как вода за плотиной. Осталось ровно то, что нужно: шаг, пауза, дых. Ружьё – к плечу, но не в глаз; рогатина – в руке, жало вниз. Идти – как войти в тень: ни слова, ни щепки, ни вздоха. А если поднимется – не пятиться, левым плечом подать, древко – в землю, жало – в грудь. Так учили. Так оно и будет.
Тур двигается дальше, мерно, будто у сердца метроном завели. Лес принимает его без звука. И только где-то с самого дна сна шевелится тёплая чёрная воронка – зовёт, обещает: «Назад, внутрь, до-начала». Он ей отвечает походкой. Ему – не в лоно. Ему – в упор.
Глава 12. В избе
Утро в избе Дуни началось с дрожи: свет тонкий, едва пробивается через заиндевевшее окно. Воздух плотный, холодный, пахнет дымом, пряностью, чем-то горьким. Как Тур ушел начала: подмётки, помёты, воду в котёл потащила, лёд раскидала, уголь подложила, чтобы печь подпухла. Дрова рубила на мелкие клепки, лучину точила, в полати сметала стружки, колотила ледышки с окон, вытаскивала зверобой из угла – как обычно зимой женщины делали, чтобы нечисть не ворвалась – ветки колючие, шиповник, крапива – ставили в углах, под потолком, над дверью, чтобы скользко было нечистой силе. Но рука её дрожала – миски падали, тряпки рвались, поленья выскальзывали. Всё казалось мягким, скользким, словно руки её – ледяной мох. В одном моменте сыпнула уголь – углы избы окропило пылью.
Стук в дверь. Она встрепенулась, сердце подскочило, полотенце с рук выпало. По плечу прошёл холодок. Дверь скрипнула, и внутрь вошла Евфимья – крестная её. Седовласая, с глазами тихими, без спешки. Она не сказала ни слова, просто вошла и начала помогать: помочи поводить, дров подкинуть, миски поднять – молча. Дуня несёт посуду, ложки, плечо ноет от ранней работы. Но когда вечер подошёл, и всё было убрано, пол чист, печь ровно дышит – они сели за стол, и тогда Евфимья заговорила.
В голосе её – не сказка, а полусон:
– Слушай. Я расскажу одну старую вещь, что шепчут лишь по ночам…
Евфимья долго молчала. Пламя лучины кривилось, ползло по стене, и только тогда она заговорила – не громко, но так, что у Дуни волосы у корня зашевелились.
– Слушай, крестница… есть давняя повесть. Не нынче она родилась и не в наших краях только шепчется. Где есть земля и могила, там и она.
Жили-были мёртвые, которых земля не приняла. Не простые покойники, что под крестом спят, а такие, что с кровью уходили, с криком, с клятвой. Их называют— заложные: не люди, не звери, а то, что меж.
Говорят, такой мёртвый в первый год по ночам выходит. Сначала тихо: тень его в избе мелькнёт, дыхом ледяным по спине пройдёт. Потом смелее – в окошко глядит, в закоулках стоит, пока не позовёшь его по имени. А кто позовёт – тому самому и лечь придётся, в холодное место. Потому как душа без сердца ходить не может. А сердце – они вырывают, выедают, чтобы себе имя обратно взять.
Есть иное слово: «менялы». Они не своё тело ищут, а чужое. Подойдут к могиле, выворотят её снизу – и переменят: покойный живым станет, а живой вместо него вниз уйдёт. Глянешь в глаза такому – а там пусто, как в чёрном озере: отражение есть, а дна нет.
В старых сказах северных было: один себя копьём пронзил и повис девять ночей на дереве, чтоб знание добыть. Так и эти – не ради мудрости висят, а ради плоть-чужой. Виснут под крышами, в углах, под корнями. У морских рассказывали: мёртвые из моря выходят, черней ночи, обросшие водяной травой, и идут за сердцами людей. Они сердце едят, чтоб снова стать. А у нас сказывали проще: «сердце не сохранишь – душа не твоя».
Говорили ещё, будто иногда сам медведь – не зверь, а шатун без имени, что солнце сожрёт. Могилу разорвёт, кости выложит врозь, крыльями-плечами распнет, а сердце – к огню, в пасть. И будет ходить меж дворов, пока новое имя не возьмёт, чужое.
Потому всякая баба в старину знала: на грудень, к Карачуну, к солнцевороту – держи в избе крест, огонь, соль, траву. Не держишь – не твоя душа станет. Так и сказывали.
Евфимья перекрестилась, но рука её дрогнула. Говорила она глухо, пророчески:
– Помни, Дуня. Не всякая смерть – конец. Бывает, что это только начало. Иной мёртвый спит, а иной – ждёт. И когда выйдет – уже не вернёшь. И если он к тебе придёт, не зовом зови, не взглядом смотри. Молчи. Молись. И держи огонь.
Сначала Дуня не поняла – просто будто собаки за околицей перестали лаять. Только что тявкали, перекликались – и вдруг оборвалось, как рукой сжали. Она подняла голову, насторожилась, прислушалась. Евфимья у печи, дрова поправляет, а Дуня ловит ухом: нет. Нет звука.
А потом поняла: идёт. Сначала далеко-далеко, будто из самого леса, из тёмной стены елей, пошла тишина. Идёт она низко, как холодный дым по земле стелется, по деревне плывёт.
Собаки первыми умолкли: дальний лай сжал, оборвал, потом ближе – как будто им пасти заткнули. А потом пошло дальше. В хлеву овца протянула жалобное, и тут же захлебнулась – не продолжила. Корова в стойле дернулась, повела копытом, фыркнула – и стихла. Куры на жердях затоптались, крыльями хлопнули – и замерли.
И тишина шла, слой за слоем, из конца деревни к середине, от середины – к избе Дуни. Шла и становилась звонче. Не пустота, а звон. Такую тишину человек слышит ушами, как звон в голове: будто все звуки есть, но спрятаны, сжаты в один ком, готовый треснуть.
Дуня села, руки прижала к коленям, сердце в груди трепещет, как птичка в силке. Евфимья голову подняла, слушает – молчит, глаза узкие, губы сжаты.
Чем ближе тишина, тем сильнее холод. Воздух в избе стал густой, сырой, будто стены криницей обросли. Из щелей тянуло ледяным: пахнуло землёй из могилы.
И тут на Дуню накатывает – не мыслью, не разумом, а нутром. Животным нутром. Как овца чует волка. Как птица под ястребом. Пот прошиб её сразу, кислый, едкий, будто тело решило само себя сбросить, выбросить. Волосы на затылке встали, колени дрожат, руки вцепились в скамью – и всё равно силы нет.
Страх. Не простой – не за мужа, не за брата. А такой, что тянет её в пол, к земле, чтоб закопаться, чтоб исчезнуть. Страх, где нет слов – только смерть рядом. Где-то там, в темноте, её видят, знают, тянутся.
И ужас этот не только звериный. Он ещё и бабий. Она знает – грех у неё смертный, не отмоленный. Душа её метит. Она сама – как зарубка, которую тьма нашла. И Дуня понимает: не просто страх. Это возмездие идёт. И не миновать.
Дыхание у неё сбивается, грудь давит, глаза заслезились, всё тело дрожит, воняет своим же потом. Как зверь, что видит смерть и знает – не уйдёт.
Она шепчет, едва слышно:
– За мной… идёт. За мной… грех мой…
И это шёпот не человеческий уже, а животный, сквозь зубы, будто сама смерть в горле её гниёт.
Евфимья резко поднимается, выхватывает лучину, крестит воздух, крошит соль по углам. Говорит низко, властно, как не крестная уже, а сама ведунья:
– Молись. Держи пламя. Не смотри в окно.
Огонь в печи вспыхнул, искры вырвались, осветили стены. Но за стенами – та же тишина, и она всё ближе. Уже не за деревней. Уже под их окном.
Евфимья встала, будто выше стала, тень её длинная легла по стене, заслонила угол. Взяла горсть соли из полотняного мешочка, крестом посыпала под порогом, у окна, у печи. Соль трещала, будто живая, словно в ней искры были.
Затем достала из-за печи связку трав – березу, зверобой, сухую крапиву. Сунула в жар, дым густой пошёл, горький, едкий, так что глаза защипало. Дым лёг по углам, шевельнулся, будто отгонял что-то невидимое.
И голос у неё стал другой: не тихий женский, а глухой, древний, с придыхом – будто сама изба говорила её устами:
– Чужая сила, уйди. Где пришла – туда вернись. В воду, в землю, в корень. Веткой колючей пронзись, солью сожгись, огнём опалиcь.
Она взяла головню из печи, огонь капал, и кругом обвела стены – крест над каждой щелью, над каждым углом. В угол за печкой ткнула, где тень тянулась длиннее всего. Там что-то будто зашипело – не звук, а ощущение, как если бы змея в сердце прошла.
Дуня вцепилась в подол, вся мокрая от пота, дышит рвано, в горле ком, как от крика, что не выходит.
А тишина за стенами всё давила, всё звенела. И казалось, что нет больше мира – ни деревни, ни леса, ни снега. Всё вытеснило одно: эта глухая, живая пустота, шаг за шагом приходящая к ним.
И вдруг собака где-то близко – взвыла, так страшно, так жалобно, будто живьём её резали. И сразу оборвалась.
В избе стало ещё темнее, и даже огонь в печи закачался, пламя тонким языком вытянулось, как будто его втягивало куда-то наружу.
Евфимья крикнула громко, так что Дуня вздрогнула:
– Не смотри в окно!
И тут Дуне показалось: за окном мелькнуло. Не лицо, не тень, а будто сама темнота прижалась, глянула.
Евфимья встала посреди избы, обвела огнём воздух крестом, шептала быстро, почти шипела, будто спорила с кем-то невидимым:
– Огнём загорожу, солью засыплю, словом отведу. Не войди, не коснись, не гляди!
Дым травы вязал стены, делал избу тесной, как глиняный горшок. А за стенами – всё глуше. Ни коня, ни собаки, ни крика детского. Даже ветер, что весь день гонял снег по крыше, теперь замолк. Лишь тишина – и она уже дышала. Звенела в ушах, ломала грудь.
Дуня вжалась в лавку, колени под себя, руки дрожат. В груди тяжесть, как будто сердце в кулак взяли. Пот на висках холодный, едкий, с кислинкой – будто тело её само знало: смерти ждёт.
И тогда – шаги. Нет, не шаги даже, а треск снега под тяжестью. Сначала у дальних изб, потом ближе, ближе, пока не стало ясно: идёт. Не видно, кто там. Но каждое движение чувствуешь, как у зверя перед логовом: ещё не показалось, а нутро уже орёт – здесь!
Окно дрогнуло. Дуне почудилось – будто кто-то провёл по нему рукой изнутри, и иней под пальцами соскользнул. В горле у неё вырвался звук – то ли стон, то ли визг, но она прикусила губу до крови, чтоб не закричать.
Евфимья грымнула:
– Сиди! Молчи! – и снова бросила в огонь горсть соли. Пламя взметнулось, сухо треснуло, как будто кость сломалась.
За стеной будто шевельнулось. Как если бы что-то огромное наклонилось к избушке, скребануло по брёвнам. Не когтем, не рукой – тьмой.
Дуня дышала коротко, с присвистом, грудь сдавило так, что она едва обмерла. И вдруг поняла – ужас этот не только в том, что что-то пришло. А в том, что оно ищет её. Её! Не мужа, не крестную, не кого другого – её грех тянет.
– За мной оно… – прохрипела она, дрожа, и губы её побелели.
Евфимья встала над ней, подняла головню, крестом обвела воздух. Глаза её блестели так, что Дуня не узнала родную женщину – это была не крестная, а сама древняя баба, из тех, что жили до креста, до молитвы.
– Молись! – крикнула она, и кинула головню в печь.
Огонь ухнул, как зверь. Пламя вспыхнуло, так что изба вся засветилась красным. И в тот миг тишина отступила. Не исчезла – нет. Просто попятилась, отвалилась в темноту.
А Дуня сидела вся мокрая, воняла кислым потом, как забитая скотина, и знала: это ещё не конец. Оно уйдёт – и вернётся. За ней.
Глава 13. Ожидание
После ночи Дуня слонялась по избе, как неприкаянная. Всё делалось – да всё валилось. Воду принесёт – половина плеснётся, ухват возьмёт – выронит, хлеб ломит – крошки в руках остаются. В глазах – пусто, в сердце – тянет, но не к мужу, а к беде.
Сначала думала: сидеть. Потом – не вынесла. Накинула свитку, пошла к Степану.
На улице воздух был тяжёлый, как мокрая шерсть. Камень дышал низко, из-под земли: вдохнет и замрёт. Дорога под ногой вязла, мокрый снег лип к чирикам. Избы стояли, будто притихли.
У Степана дверь скрипнула, когда она дотронулась. Он сам вышел навстречу. Смотрел молча. Лицо серое, как небо. Губа прикушена. Взгляд по Дуне прошёл и уперся ей за плечо – туда, где лес. Обошёл ладонью косяк, будто гладил больное место.
– Он ушёл с рассветом, – сказала Дуня. Голос чужой. – Не вернулся.
Степан кивнул. Не удивился. Видно, с той же думой сидел. Провёл её в избу. Там пахло хлебом и старой смолой. На столе – стакан с тёплой водой, ружьё у ног, снятое с гвоздя. У окна – Аксинья, мать Тура, в платке, бледная. Губы шевелятся беззвучно. Пальцы вцепились в край стола.
– Погоди, – сказал староста негромко. – Погоди.
Они и ждали. Молчали, потому что каждое слово могло сдвинуть равновесие. Огонёк свечи то вытягивался, то гнулся, бросая на стены тени длинные, живые. Казалось, вот-вот одна из них отделится и пойдёт по избе. Не Староста Степан – старик то поднимался, то садился, хватал кочергу, ставил обратно. Руки его жили сами по себе – пальцы всё искали, что бы переложить, чем бы занять пустоту. В печи шептали угли. С потолка капнула вода со связки лука: тюк. В оглобле за стеной что-то щёлкнуло. Ветер тронул избу так, будто она висела на нитке.
Дуня прислушивалась к миру, как к больному телу. К деревне дотягивалось лесное дыхание. Из-за Камня шёл медленный, низкий гул, как если бы огромный зверь переворачивался во сне. Собаки разом затаились. Птица под крышей взбила крылом, цыкнула и смолкла. Вдруг щекой почувствовала, не ухом: прошел по улице чужой холод, узкий, как лезвие. От него внутри всё сжалось, как прядь в кулаке.
– Беда, – сказала Аксинья, не поднимая глаз. – Сердце не на месте.
Степан косо глянул на неё. Плечи поднял и тут же опустил. Сел. Руки на стол и сжал так, что побелели костяшки.
– Шатун нынче недобрый, – сказал он в пустоту, будто оправдывая собственную тревогу. – Бывает, мерзлота его не берёт. Сычит, ходит, не спит. Чует человеческое.
Тишина в ответ. В печи уголь треснул, как сухая ветка. Дуня глотнула воздух. Вкус золы. Вдруг поняла: в её избе узвар тянул сладким дымком, а теперь во рту только горечь.
Время скользило, как жир по краю миски. То быстро, то совсем не движется. Степан вставал, подходил к двери, открывал на ладонь, слушал и снова закрывал. Дверь скрипела всякий раз тонко, на одном и том же звуке, как нитка, которая сейчас лопнет. Аксинья поднялась, погасила лишнюю лучину, потом снова зажгла – и так два раза, словно боялась, что света окажется либо мало, либо слишком.
Раз, далеко, чужая дверь бухнула, и Дуня вздрогнула всем телом. За окном прошуршало, как платье по сухому камышу. По стене прошёл, как паук, маленький холод. Даже лук на связке перестал капать.
– Пойду навстречу, – сказала Дуня.
Степан поднял ладонь. Не надо. И добавил уже тихо:
– Он сам дорогу знает.
Ждали дальше. Слова в горле стали тяжелыми, как камушки. Дышать – и то мешало.
Потом в сенях прямо из тишины что-то черкануло. Шаг. Второй. Дверь дрогнула. Скрипнула. Вошёл Тур.
Он был мокрый, будто шёл под дождём, хотя дождя не было. На плечах – серый налёт, как от инея, который успел стаять. Лицо не бледное – каменное. В глазах – тень, как от копоти. Он перешагнул порог, стоял и молчал. В избе все звуки, кажется, повисли на одном крючке.
– Где был, сын? – спросил Степан. Без привычной хрипоты.
Тур сел на лавку. Не сразу. Сначала ладонью провёл по колену, будто стирал что-то липкое.
– Видел странное, – сказал наконец. Голос низкий, потёртый. – След у берлоги. Не свежий и не старый. Бродяжий. Шатун ходил. Тропа рваная. Земля в комках, мох взбит, корни оголены, как жилы. Запах… не звериный один. Сладким тянет. Приторным. Плесенью. И… будто железом тоже.
Он замолчал. Смотрел мимо. Дуня слушала, не дыша.
– Он был, – продолжил Тур. – Это точно. Лежал. Потом встал. Шатун. А потом как бы издох. Или лёг. Но нет его. Точно не знаю.
Степан поднял голову. Взгляд остро резанул.
– Ты не знаешь? – спросил тихо.
– Не знаю, – повторил Тур. Ладонь сжал, костяшки побелели. – След есть и нет. Дыха нет. Тишина там, как в пустой бочке. Я стоял. Слушал. Не беру.
В избе похолодало, хотя печь дышала ровно. Аксинья перекрестилась почти незаметно. Дуня поймала себя на том, что ищет знакомый запах его кожи, пота, хлебного кваса – а вместо этого чувствует только воду, сырую и пустую. Как будто лес спер у них нос.
– Всегда знал, – сказал Степан. Не упрёк. Удивление. В его голосе было то, от чего дерево трескается зимой: сухой холод.
Тур кивнул. Медленно. Чужая тень прошла по лицу.
– Всегда, – сказал он. – А нынче нет.
Они сидели трое. Пламя в печи повело боком, как от сквозняка, которого не было. Снаружи, будто в ответ, коротко звякнуло о косяк, хотя у двери никого не стояло. Собака во дворе вздохнула и потянулась, не решаясь тявкнуть. Камень вне избы тихо перевернулся и снова лёг.
– Шатун, – сказал Степан, будто точил в зубах это слово. – Или то, что вместо него.
Тур не ответил. Сел тише тени. В эту минуту его молчание было страшнее любой вести. Он, который «чует нутром», сидел и не знал. И эта неуверенность расползалась по избе тонкой трещиной, в которую тут же налился холод.
Дуня опустила глаза. Стиснула пальцы так, что ногти впились. Почувствовала: что-то пошло не так. Не в лесу. Внутри. В самом сердце того, кто всегда видел в темноте дальше других. И от этой мысли ей снова стало страшно. Как ночью, когда гаснет последняя лучина и ты понимаешь: дальше только тьма.
Степан посмотрел на неё и тихо сказал:
– Ступай, Дуня. Домой иди. Туру покой нужен, тебе – тепло. Не твоё это дело.
Она не перечила, только кивнула и вышла, не оглянувшись. На улице снег шёл тихо, ровно, как сон, а за спиной в избе остались двое – отец и сын.
Тур сидел, не шевелясь, будто окаменел. Руки на коленях, глаза потемневшие. Пахло от него лесом, не холодным – глухим, сырым, земляным. Степан знал: таким в избу не ходят, не для бабы, не для печи. Дом его не примет, пока лес не выйдет.
– Ступай к Гавриле, – сказал он негромко. – Не домой тебе нынче. Паром тебя надо, огнём. Он знает как.
Тур поднял взгляд – коротко, с благодарностью, но без слов. Встал, закинул тулуп на плечо, шагнул за порог.
Глава 14. Баня
Кузница Гаврилы пряталась, как жерло в снегу. Там свет – тревожный, красный, шевелился на стене, как живой, да пар из приотворённой двери вился тонкими космами. Слышно: железо где-то дышит, камни в горне перекликаются.
Гаврила стоял у порога, будто случайно вышел воздухом подышать. Но не случай там был: тень от него лежала поперёк тропы, как перекладина. Глянул на Тура – не удивился, только бороду ладонью пригладил.
– Живой, – сказал негромко. – И нож твой погнут. Поправить надо.
Тур глянул вниз: и верно, кончик ножа – чуть вбок, словно сам лес его дёрнул. Он кивнул коротко:
– Поправь.
Слов мало – а оба поняли.
В кузне было тепло, не доброе тепло, а то, что с огнём смешано: острое, пахучее. Горн – как красный глаз, наковальня чёрная, блеском масляным полита; стенки сажей, и на каждом гвозде – тень. С потолка капала талая вода – снег на крыше поддался от жара. Гаврила сунул нож на камень, чуть поведал, приложил к наковальне, дыхнул, ударил – звякнуло гулко, как по кости. Потом положил железо в сторону, не доводя, и боком глянул на Тура:
– Ты бы… баньку. Пар тебе нужен. То, что из лесу с тобой пришло, паром спровадить. Не держи в себе.
Сказал как между делом, без нажима. А в словах – как камень в тесте. Тур плечом повёл; ему враз явилось: пар, полог, да тишина, где ни Дуниных глаз, ни бабьих шепотов.
– Пар с зари держу, – добавил Гаврила, будто вспоминая, —для дела. Теперь поддал – пар живой, чистый. Пойдём.
С «первой зари» – слово скользнуло, будто бы ничего; а Тур нутром понял: ждал его Гаврила. С утра держал пар, берег, подкидывал, прислушивался – не по-деревенски ли идёт зверолов, не тяжелеет ли снег под его шагом.
Они вышли. Баня стояла по-чёрному, старо: бревно закопчено, крыша низкая, дверь низкая – чтоб входящий поклонился. Тонкий дымок просачивался из-под конька; пахло полынью, можжевелом и смолой. По сугробу к порожку – короткая тропка, свежепротоптанная; следы – Гаврилины, широкие, и ещё чьи-то мелкие, старой ночью оставленные. Тишина вокруг – не пустая, а внимательная.
Гаврила у двери остановился, не стал креститься – в бане крестом не машут, – только шепнул, как водится:
– Хозяин-батюшка, пусти с миром. Дай пара не жаром, а добром.
Стукнул трижды костяшкой в притолоку – раз, другой, третий. Тур стоял рядом, молча, и чувствовал, как от этих трёх ударов будто что-то невидимое отпрянуло под полом, ушло в угол.
Внутри – темно, тепло, дымок по углам стелется; жара – тугая, не кусается, а держит. Каменка – пузатая, в глубине, камни тёмные, влажные, дышат. На полоке – веник дубовый, пересушенный, но вымоченный уж; рядом – берёзовый, с запахом прошлого лета, из кадки пар идёт. В углу лохань с водой, рядом ковши – железный и деревянный. На лавке – клок пакли, тёплый, подсохший, будто волос с бороды самого огня; щёлок в глиняной посуде; над косяком – ветка колючая, шиповник сухой – от чужого.
– Сначала сядь, – сказал Гаврила. – Пар сам тебя возьмёт. Говорить – потом. В бане слов много не держат: банник ревнив.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.