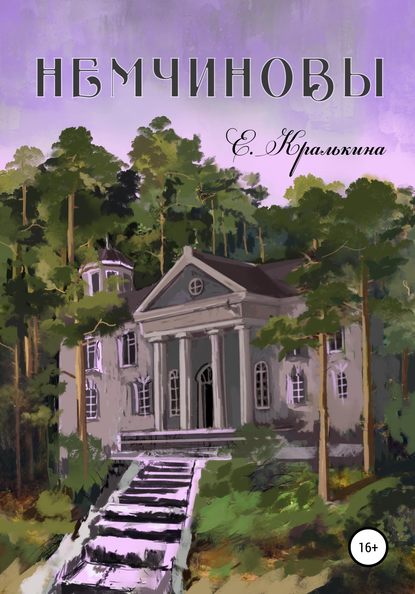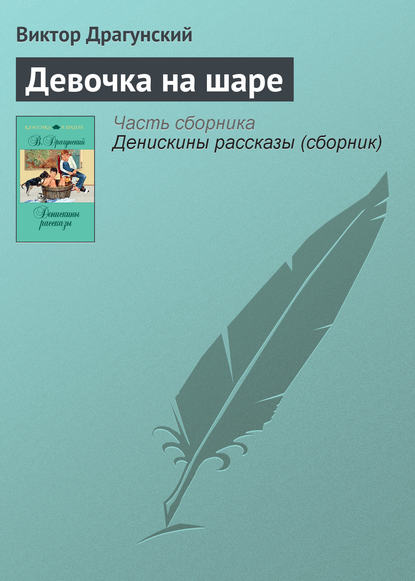- -
- 100%
- +
– Ну, вот Максим, смотри, это не мужик! – говорил отец, снова поднимая брата ко мне на печку.
– Не, не музык! – старательно повторял за отцом Макс.
– Как девка?! – развёл руками дядя Саша. – Парень же был… Мы же Колей его звали!
Двоюродная сестра Агата театрально вздохнула:
– Ой, опять имя заново придумывать…
Папа, глядя на меня, сказал твёрдо и без колебаний:
– Имя у неё есть. Это Таня!
Бабушка Серафима вышла во двор на рассвете, когда в доме все ещё спали. В одной её руке был глиняный горшок, в другой – свёрток в чистой тряпице, туго перевязанный красной шерстяной ниткой.
Она присела на корточки у старой, могучей яблони и положила свёрток между её уходящими в землю корнями, бережно присыпала его рыхлой землёй, а затем полила из горшка – но не водой, а свежим, ещё тёплым молоком.
– «Чтобы дерево силу знало…», – шептала она, и её слова таяли в утреннем воздухе.
– «Как яблоня эта к земле накрепко привязана,
Так и ты, Таня, к роду своему навек привязана.
Корни вглубь – судьба ввысь.
Чтоб никто и никогда тебя не оторвал, не отрубил от этой земли, от этой крови.»
***
Вспышка гаснет, а я навсегда осталась связана невидимыми, но прочнейшими нитями и с тем старым домом, и с той яблоней, и с той баней, где появилась на свет, которых уже давно нет на картах, но которые навсегда отпечатались в моём сердце.
Навсегда связана с родом – рождённая вьюгой и принятая тёплыми, пахнущими дымом и парным молоком руками.
ВСПЫШКА…
Белое. Ослепительно-белое, режущее глаза. Сквозь слипающиеся ресницы я вижу себя – маленькую, беспомощную, распластанную на холодном операционном столе. Слепящий свет хирургических ламп, бездушный металлический блеск инструментов, смутные тени в зелёных халатах, копошащиеся вокруг. Их голоса доносятся сквозь вату наркоза, приглушённые и нереальные.
И вдруг – сквозь стерильную белизну больничных стен, сквозь кафель и штукатурку, проступает нечто иное. Тёмные, извилистые жилы. Они ползут, извиваются, наливаются соком. Это корни. Мощные, живые корни той самой родовой яблони, с которой навсегда соединила меня бабушка Серафима…
Они тянутся ко мне, эти пульсирующие ветви, мягко, но неумолимо опутывая запястья, щиколотки. Холод кожи сменяется их живым, грубывым и тёплым прикосновением. И вот меня уже держат не кожаные ремни, а они – живые, дышащие в такт моему сердцу.
В их тихом, древнем шелесте я слышу её, бабушкин, шёпот, проросший сквозь время: «Род крепок корнями, дитятко… Держись…»
Голос анестезиолога пробивается сквозь нарастающий водоворот образов, как сквозь толщу воды:
– Глубоко вдохните. Сейчас уснёте.
Я делаю последний, прерывистый вдох, наполняя лёгкие химической прохладой… и проваливаюсь.
***
…и вдруг, сквозь запах эфира, на языке возникает вкус – густого, парного молока. Того самого, первого, что пила в самые ранние, туманные дни своей жизни. И снова во мне просыпается всепоглощающий, животный голод.
Он разрывает грудь изнутри оглушительным рёвом, криком, в котором – одна лишь потребность жить.
– Да что ж ты за неугомонная такая! Ишь, раскричалась, не угомонить! – доносится сверху усталый, резкий голос тёти Наташи.
Но коровье молоко застревает комом в горле, не принося облегчения. И тогда – новое прикосновение.
Руки соседки, её грудь, что пахнет душистым травяным чаем и тёплым, только что испечённым хлебом. Я впиваюсь в неё с жадностью, впервые глотая не просто пищу, а саму жизнь, ту, что не могла принять от обессиленной родной матери.
Где-то в глубине, в самой сердцевине моего существа, что-то шепчет с безмерным облегчением: «Вот оно… Настоящее…»
– Спасибо тебе, большое спасибо, – слышится голос тёти Наташи из дверного проёма. – А то мы тут с ума сходили. У сестры молока нет, ребёнок голодный, кричит без остановки…
Несколько дней подряд она приходила, эта женщина, чьё имя кануло в Лету вместе с бабушкой Серафимой. Она была моим ангелом-хранителем, пока у мамы не появилось своё молоко. А потом её образ стёрся, оставив лишь запах хлеба и чувство умиротворения.
Дорога была расчищена. Отец уезжает один – мама ещё слишком слаба после трудных родов. На пороге дома стоит бабушка Серафима, непоколебимая, как вековая скала, и её слово звучит как закон.
– Пусть тут окрепнет сначала. Земля родная, воздух наш – они силу дадут, – говорит она твёрдо, и в её глазах светится глубокая, древняя уверенность. – Родная земля никогда не подведёт.
Через месяц, когда мама окончательно пришла в себя, а я перестала быть похожей на хрупкого птенца, мы все вместе отправились домой.
И вот новое испытание. Бабушка Стеша, отецова мать, разглядывает меня на руках у мамы. Её губы складываются в едва заметную, но колючую усмешку.
– Ну и галчонок же ты, галчонок чёрненький! – протягивает она и тычет в меня сухим пальцем.
– И имя ей – Гала! – говорит бабушка, растягивая слова на свой, белорусский лад. – Галка она, больше никто!
– Мама, хватит! – раздаётся твёрдый, как сталь, голос отца. Он встаёт между мной и этими словами, живым щитом. – Имя у неё – Таня. И точка. Я больше ни слова не хочу слышать.
Вечер. Тихо и уютно. Отец с мамой купают меня в большом жестяном тазике. Его руки, обычно такие большие и неуклюжие, сейчас движутся с поразительной нежностью. Он зачерпывает ладонями тёплую воду и осторожно поливает моё худенькое, хрупкое тельце.
– Ничего, Танюшка, ничего, – бормочет он, глядя на меня с такой любовью, что она становится почти осязаемой. – Вырастешь у меня золотой. Вот увидишь, будешь у папы золотой.
Я не понимаю смысла этих слов, но кожей, сердцем, каждой клеточкой чувствую – он верит. Верит так сильно, так безоговорочно, что его вера обволакивает меня тёплым коконом, становясь моим первым и самым прочным щитом.
И время доказало его правоту. Чёрный пушок на моей голове постепенно сменился вьющимися белокурыми локонами.
– Видали? А? – с торжеством говорил отец, окидывая бабушку Стешу победным взглядом. – Моя Танька – золотая! Я же говорил!
«Папа просто знал? – проносится где-то на грани угасающего сознания последняя мысль. – Или же я, сама того не ведая, подстроилась под его веру, чтобы оправдать её?»
А потом была первая явка в женскую консультацию. Мама, сияющая, счастливая, с моей крепкой персоной на руках.
Врач, опытная, видавшая виды женщина, с удивлением подняла брови:
– А где же вы рожали-то? Такой крепенький ребёнок!
Мама лишь лукаво ухмыльнулась, и её глаза блеснули озорными искорками.
– Да мы её в бане нашли, под веником! – с лёгкостью выпалила она.
Так и родилась наша самая главная семейная легенда: брата Максима – «купили в магазине», а меня, Таню, – «нашли в бане под веником».
***
Вспышка гаснет…
…но я чувствую вибрацию смеха где-то глубоко в груди…
…тепло рук и лёгкость, которая поднимает меня в верх, отменяя гравитацию…
…вкус детства на языке – сладковатый, как чай с вареньем, который ни с чем не перепутаешь…>
ВСПЫШКА…
Белая, ослепительная молния, холодная и резкая, внезапно раскалывает пополам липкое, тягучее небытие. Она вырывает меня, выдёргивает за душу из этой безвременной пустоты.
Голоса. Сначала – просто далёкий гул, словно доносящийся сквозь толщу океанской воды, сквозь слои земли и забвения. Они нарастают, становятся чётче, и я понимаю – я возвращаюсь.
Я вижу всё откуда-то сверху, со стороны, будто парю под потолком. Стеллаж со стерильными инструментами, холодный блеск стали. И – моё собственное тело, хрупкое и беззащитное, распластанное на операционном столе, залитое ярким, безжалостным светом хирургических ламп.
Лев Валерьянович, в зелёном халате, с сосредоточенным лицом, склонился над разрезом. Его руки в перчатках движутся быстро и уверенно. Вокруг – ассистенты, напряжённые фигуры, часть одного сложного механизма.
Его голос, спокойный и чёткий, режет тишину, как скальпель:
– Как самочувствие пациента?
– Все показатели в норме, – тут же, чуть сбоку, отвечает голос анестезиолога.
– Пульс?
– Стабильный.
– Сердцебиение?
– В норме, Лев Валерьянович. Всё под контролем…
Их слова, такие ясные и деловитые, вдруг резко обрываются. Не затихают, а именно обрываются, будто кто-то выдернул вилку из розетки, обесточив саму реальность. Звук глохнет, свет меркнет, и всё вокруг снова погружается в бездонную, оглушительную тишину. Я лечу в эту тишь, в эту пустоту.
И вдруг – я чувствую. Сначала не звук, а тепло. Оно разливается по моему ледяному запястью, мягкое, живое, знакомое до слёз.
– Бабушка?.. – шепчу я, это не звук, а лишь мысль, рвущаяся из самой глубины.
И сквозь время и пространство, словно по невидимой нити, доносится её голос, тот самый, тихий, с хрустальным подзвоном и бездонной мудростью, который я помню с детства:
«Как дерево к земле привязано корнями, дитятко, так и ты, Таня, к роду своему привязана душой. Помни это… Помни…»
***
Вспышка гаснет и я чувствую их. Не путы, не холодные кандалы. Это – корни. Они обвивают моё запястье, но не сковывают, а держат. Крепко, надёжно, по-родственному. Это руки моего рода, бесчисленные ладони всех, кто был до меня. Они не дают моей душе сорваться в бездну. Они мягко, но неумолимо тянут меня назад, к свету, к жизни, к стуку собственного сердца.
Они не дают мне уйти. Они возвращают меня домой.
ВСПЫШКА…
Сознание разлетелось на миллионы сверкающих осколков, словно хрустальная Галактика после Большого взрыва. Я плыву в первозданном хаосе, где свет и тьма сплетаются в причудливые туманности, не в силах понять – где я? В обломках прошлой жизни? В призрачном будущем?
Или это чужая, навеки потерянная память, в лабиринтах которой я обречена блуждать?
***
Яркий свет. Сначала он был одиноким огоньком в кромешной тьме, крошечной, мерцающей звездой. Но с каждой долей секунды свет набирает силу, разливаясь ослепительной, белой туманностью, выжигая собой всё пространство, заполняя собой всё сущее.
Пространство вокруг качается, моё тело, моё «я» плывёт в невесомости, и все прежние законы физики, всё, что я знала о движении, оказалось бесполезным и ложным.
– «Что это за место?! Почему я не могу управлять своим телом?!» – мысль, острая и быстрая, как падающая звезда, пронеслась и растаяла в безвоздушной пустоте.
Я будто заточена в тесный, неудобный скафандр, который сковывает каждое движение, каждое желание.
– «Но где кнопки управления? Почему нет инструкций? Где хоть какая-нибудь подсказка?»
Паника, холодная и липкая, поднимается изнутри, сжимая моё крошечное, бешено стучащее сердце.
– «Где автопилот?! Где техническая поддержка?! Я не справлюсь!» – бессильно кричу я в безмолвие.
Но звук тонет в вакууме, не находя отклика. Ответа нет, лишь тишина… Или не совсем?
Я внезапно ощутила – я не одна. Они были здесь. Высокие, непостижимые, как древние божества, сошедшие с небес. Их голоса гудели где-то на самом краю моего восприятия, могучие, как гром, но слова рассыпаются на отдельные звуки, которые я не могу собрать в понятные смыслы.
Но, странно, я не чувствую страха. От них исходит тёплая, почти осязаемая лавина нежности, безудержного любопытства и… любви? Да, это именно она. Они наблюдают за мной, и их восхищение искрится в воздухе, а эмоции накатывают на меня умиротворяющими волнами безбрежного, спокойного океана.
Один из Гигантов, с тёплым, грудным голосом, вдруг издаёт звук, от которого задрожала сама материя:
– Смотри! Смотри же! Наша Танечка… она сделала первый шаг!
И тут – Свет. Не просто свет. Это была вспышка гиперновой звезды в центре моей личной Вселенной.
Он снова завладел всем моим существом, манил, тянул к себе неодолимым магнитом.
Это был одуванчик. Совершенный, солнечный, пушистый шар, сияющий у самого основания гигантской, тёмной колонны, которую позже я узнаю как «ногу стула».
Я не могла сопротивляться. Каждый миллиметр давался с невероятным трудом. Мышцы, ещё не ведающие своей силы, дрожали от непривычного напряжения, ноги подкашивались. Но ОДУВАНЧИК манил, звал, обещал чудо.
И вот, моя крохотная, неловкая ладонь, преодолевая силу притяжения целой планеты, потянулась вперёд и коснулась пушистого солнышка.
В этот миг Вселенная замерла. Время остановилось, затаив дыхание. И где-то сверху, словно эхо Большого взрыва, раздался взрыв ликования, сотрясший основы моего мира:
– Молодец! Наша девочка! Наша девочка пошла! Ура-а-а!
Я обернулась на этот звук, этот вибрирующий от счастья гром. И впервые в жизни – не просто ощутила, а ПО-НАСТОЯЩЕМУ увидела их.
Двух Гигантов. Двух Богов моего детства. Мама и папа.
Их лица, залитые слезами и улыбками, их глаза, сиявшие, как целые галактики, полные безграничного восторга и любви, в которой можно было утонуть и возродиться.
И я всё поняла. Это не конец полёта. Это – старт. Самый первый шаг в великом и бесконечном путешествии под названием Жизнь.
***
Вспышка гаснет… и я растворяюсь в сиянии
ВСПЫШКА…
Резкий, безжалостный свет, будто тысяча молний, ударивших разом, пронзает мои закрытые веки. Я инстинктивно вжимаю голову в плечи, прикрываюсь ладонями, но сквозь пальцы уже чувствую – мир переламывается, как стекло.
Воздух гудит, натянутый до предела, как струна, готовая лопнуть, а в висках отчаянно, выбивает барабанную дробь:
– Тук-тук-тук. Тук-тук-тук.
Сердце колотится в такт, бешеным молотком бьётся о рёбра, пытаясь вырваться из груди. И вот…
***
Тепло.
Не просто отсутствие холода. А бархатное, живое, солнечное тепло, которое разливается по коже, проникает в самую душу.
Я сижу на плечах у отца, высоко-высоко, вцепившись в его густые, колючие волосы. Они щекочут ладони, пахнут ветром, дорогой и чем-то неуловимо-родным. От счастья у меня перехватывает дыхание.
– Пап… – бормочу я, прижимаясь горячей щекой к его макушке, чувствуя под собой твёрдые, уверенные мышцы. – Мы сейчас как орлы?
Он смеётся, и его смех – это низкий, грудной, согревающий изнутри гул. Его грудь вибрирует подо мной, как самый надёжный в мире двигатель.
– Выше орлов, доченька! Смотри – облака почти достать можно рукой!
Я послушно тянусь вверх, к ослепительно-белым, пушистым глыбам, плывущим в бездонной синеве. Но тут он нарочно делает резкое движение, притворяясь, что поскользнулся. Я взвизгиваю, впиваясь пальцами в его лоб.
– Ты же меня не уронишь, пап? Правда? – спрашиваю я, хотя всем существом знаю ответ. Знаю его сильные, натруженные руки и огромное, доброе сердце.
– Никогда, – его голос греет сильнее, чем солнце, заливающее улицу. Он крепче сжимает мои голени, и я чувствую себя неприступной крепостью.
– Ни за что на свете.
Земля далеко внизу кажется нарисованной яркими красками из моего детского набора: изумрудные лужайки, кубики домов, крошечные, машины, где-то в далеке.
Но страшно? Нет. Его руки – мой нерушимый панцирь, моя крепость.
Рядом идёт мама. Её тонкие, нежные пальцы сплетены с пальцами брата. Максим важно вышагивает, подражая отцу, будто командует невидимым парадом солдатиков.
– Мам, не тащи меня, как мешок с картошкой! – ворчит он, надув губки, но его глаза смеются, выдавая истинную, безудержную радость.
– А ты не отставай тогда, наш командир, – мама слегка поддразнивает его, и солнечный зайчик пляшет в её зелёных глазах.
Она поворачивается к отцу, и голос её звенит:
– Смотри, вон то кафе, за углом… Помнишь, в прошлый раз у них были пирожные, прямо как эти облака – воздушные?
– Как же не помнить, – папа наклоняется к ней, и его кожаная куртка мелодично поскрипывает.
– Ты тогда весь крем себе на новое платье уронила.
– Это ты уронил! – фыркает мама, играя возмущением, но уголки её губ дёргаются от смеха. – А я героически пыталась его поймать!
Отец обнимает маму за плечи, они склоняются друг к другу, весело и беззлобно спорят, их смех сливается в одну мелодию.
Мне не нужны слова, чтобы понять их счастье. Оно разлито в воздухе, оно в их переплетённых руках, в сиянии их глаз, в этих лёгких, любящих прикосновениях.
А Максим тем временем, задрав голову, взахлёб рассказывает нам всем про могучего короля, о котором им читали сегодня в садике. Его голосок, звонкий и чистый, полный важности и открытий, вплетается в общую симфонию этого дня.
Я закрываю глаза и полностью растворяюсь в этом мгновении. В сладком, терпком аромате маминых духов «Красная Москва». В знакомом, уютном скрипе папиной куртки. В тёплом ветерке, что треплет мои волосы и несёт с собой запах нагретой травы. В восторженной, беглой болтовне брата.
Я впитываю каждую долю секунды, каждый звук, каждый оттенок запаха, стараясь впечатать это ощущение полного, безмятежного счастья в самую глубину памяти. Навсегда.
***
Вспышка гаснет…
И…
Темнота. Глухая, всепоглощающая. Давящая тишина, в которой слышен лишь стук собственного сердца, теперь одинокого и испуганного. Пронизывающий холод, забирающийся под кожу, в кости, в душу.
ВСПЫШКА…
Яркий свет снова хлестнул по глазам, но на этот раз он не слепит. Он закручивается в весёлую, зазывную спираль, переливаясь всеми цветами радуги, точно карамельная петля в новогодней конфете. Я чувствую, как меня подхватывает и затягивает в этот вихрь, будто в тёплый, игривый водоворот, и вот я уже лечу куда-то вглубь, сквозь толщу времени, по этому сияющему тоннелю…
***
Тишина. Такая, какая бывает только в старых домах, густая и сладкая, как мёд. Я сижу на прохладном полу, скрестив ноги, и старательно заворачиваю своего пупса в красивые лоскутки, которые мне дала мама. Они мягкие, уютные и пахнут стиральным порошком и чем-то ещё – может, её тёплыми, нежными руками?
– Ты теперь его мама, – сказала она, опускаясь передо мной на корточки и протягивая ещё одну горсть тряпочек. Её глаза смеялись.
– Вот, возьми побольше. Сделаешь ему кроватку.
Потом она подняла взгляд на брата, который уже вертелся у двери.
– А ты, – кивнула она ему, – смотри за сестрой. Никуда не выходите, я быстро, за хлебом.
Дверь за ней мягко захлопнулась, и воцарилась та самая, знакомая до слёз, тишина.
А я никуда и не собиралась. Мне было хорошо и безопасно в этом уютном мирке, ограждённом от всего света стенами родного дома. Мне даже нравилось иногда играть в машинки вместе с братом, слушая, как он заводит их губами: «Вж-ж-ж-ж!» Но сегодня он не играл. Он стоял у окна, вцепившись пальцами в подоконник, и смотрел на улицу, будто ждал чего-то важного и страшного.
Я отвлеклась от пупса и огляделась. Комната была полна знакомых ориентиров. Под ногами – прохладный линолеум с вытертыми до бледности цветочками. Слева – широкая родительская кровать, на которой мы с братом тайком прыгали, пока никого не было дома. Напротив – массивная, беленая печка, а за ней… Тот самый угол. Самый тёмный в комнате. Глубокий, как пещера.
– Там живёт Домовой, – говорила мама, но я видела, как её глаза смеялись, когда она поправляла занавеску.
Кот Васька обожал это место. Бесшумно проскальзывал туда, сверкал в темноте двумя жёлтыми угольками и будто растворялся – словно его проглатывала сама тень.
– Боишься? – брат, не глядя на меня, бросал в угол какой-нибудь камешек или пуговицу.
Я молчала, лишь плотнее прижимая к себе куклу.
Справа стояли, напротив друг друга, наши с братом кровати. А напротив, у самого окна, – большой круглый стол, вечно заваленный моими рисунками с размазанными красками и сломанными карандашами.
И было здесь ещё одно место… Между печкой и столом, прямо передо мной, зиял дверной проём. Чулан. Чёрный. Бездонный. Без единого окошка. Там никогда, никогда не было света. Даже днём он казался входом в иной, холодный мир.
Каждый раз, пробегая через него, я вжимала голову в плечи, зажмуривалась и чувствовала, как из этой густой тьмы за спиной что-то тянется к моей спине, холодное и невидимое. Мне всегда казалось, что в этой тёмной, огромной пустоте кто-то есть. И что этот кто-то обязательно схватит меня, если я хоть на секунду замешкаюсь.
– Бабушка говорит, что там просто старые вещи и паутина, – ворчал брат, но сам всегда бежал через чулан быстрее меня, обгоняя и толкаясь.
Я же никогда не заходила туда одна.
Внезапно брат вздрогнул всем телом. Его пальцы, лежавшие на подоконнике, впились в дерево так, что побелели костяшки.
– А-А-А-А! – его оглушительный, дикий вой, похожий на сирену, резанул по ушам, разрывая сладкую тишину.
Я замераю, не в силах пошевелиться. Моё сердце колотится где-то в горле.
Я всегда боюсь, когда он так делает. Боюсь не потому, что мне страшно за себя… а потому, что в эти моменты ему так страшно и ужасно, так одиноко, и я ничего не могу сделать.
Он с силой ударил кулаком по стеклу.
– Звяк! – хрустальный, невыносимый звук разбитого окна прокатился по комнате. Осколки, словно слёзы, брызнули и зазвенели, рассыпаясь по подоконнику и полу.
– Пошли быстрее! – брат, не глядя на последствия, хватает меня за руку и резко тащит за собой, к зияющему проёму.
Мы кубарем вываливаемся в палисадник, цепляясь за раму, и, не оглядываясь, бежим по пыльной дороге, держа друг друга за руки.
Мама появилась из-за поворота, сумки с батоном болтаются на её согнутых руках. Увидев нас, она замерла, а потом её лицо исказилось гримасой, в которой смешались ужас, облегчение и бессилие.
– Ну что мне с вами делать?! – её голос дрожит – то ли от смеха, то ли от ужаса.
– Опять?! Опять через окно?! Когда же это, наконец, прекратится?…
Брат молчит, сжимая мою ладонь так, что костяшки на его руке побелели, да и сам он стоит бледный, как стенка.
Он смотрел куда-то в сторону, в себя, в свой собственный страх.
А я смотрю на маму, на её испуганные, усталые глаза, и думаю всего одну простую мысль:
«Может, мы просто… оба до смерти боимся того чёрного чулана?»
Но вслух ничего не говорю. Никогда.
***
Вспышка гаснет…
Кадр обрывается на полуслове, оставляя в ушах звенящую, оглушительную тишину…
Я стою и смотрю на пустую дорогу…
Воздух меняется. Он становится резким, пахнет пылью от проселочной дороги и чем-то сладким – может это пахнет вьюнок полевой у канавы…
Но я знаю, просто надо ещё немного времени…
ВСПЫШКА…
Свет снова зовёт меня, манит за собой, затягивая в водоворот воспоминаний. Куда на этот раз?
Мир вокруг дрожит и мерцает, как плёнка старого проектора, рассыпаясь на отдельные, яркие, до боли чёткие кадры. Я изо всех сил сжимаю веки, пытаясь удержать ускользающую реальность, но она тает, как песок сквозь пальцы.
***
Не понимаю, как это произошло. И вообще, происходит ли это сейчас, или это всё же сон?
Да, точно. Мне это должно сниться. Этого не может быть на самом деле, ведь мой брат… он всегда защищал меня.
В памяти, словно спасительные вспышки, мелькают тёплые, солнечные образы:
…Максим, сгорбившись, учит меня завязывать шнурки. Его пальцы, ещё неуклюжие, аккуратно вяжут узел на моих маленьких ботинках.
– Смотри, вот так петлю делаешь… а потом продеваешь… Видишь? Получился бантик! – его голос спокоен и полон ответственности.
…Мы прячемся от внезапного летнего ливня под одной его курткой, пахнущей ветром, двором и мальчишеством. Крупные капли барабанят по ткани над головой.
– Ты не промокла? – его голос полон заботы, хотя сам он уже мокрый насквозь.
…Он с несерьёзным видом дёргает меня за косичку, а потом, тяжко вздохнув, отдаёт последнюю конфету – ту самую, с желанной вишнёвой начинкой.
– Держи! Ты же девчонка… – говорит он, хотя сам смотрит на неё с тоской.
Максим всегда был моим щитом. Помню, как в детском саду он решительно заслонил меня от рослого забияки с лопаткой. Его собственные коленки предательски дрожали, но голос был твёрд:
– Тронешь сестру – получишь! – его кулаки сжались, готовые на всё.
Но сейчас…
Сейчас он так же, как и всегда, взял меня за руку и повёл… но не спасать.
Вчерашний вечер настиг меня, как удар. Мы с Максом играли на полу в машинки, а взрослые, уставшие после работы, смотрели по телевизору чёрно-белый фильм про войну.
Мы, казалось, не обращали внимания на тягучий голос диктора и взрывы, но оказалось – ядовитые семена сюжета упали в самую глубину. Сцена, где немецкие солдаты безжалостно расстреливали у деревянного забора мирных жителей – женщин, стариков – врезалась в сознание, как раскалённая игла.
И сегодня Максим, под впечатлением от того фильма, решил «поставить к воротам меня и расстрелять».