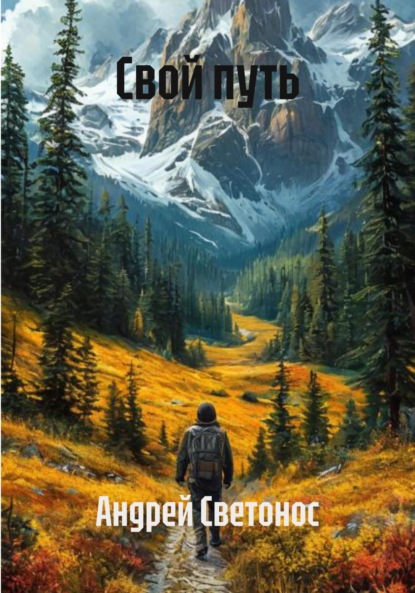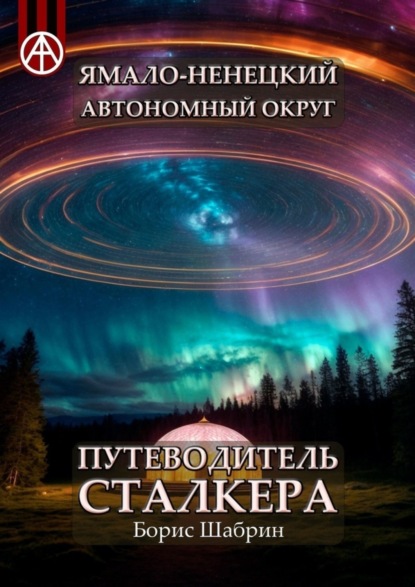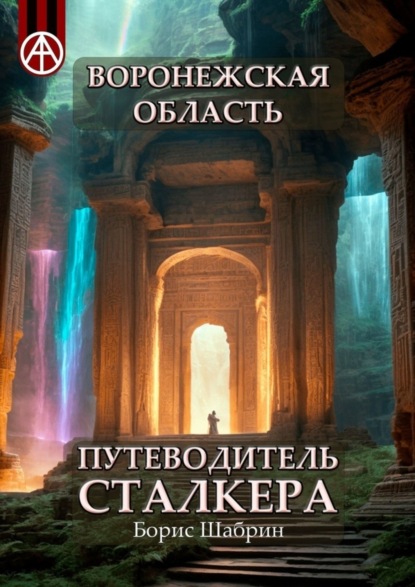- -
- 100%
- +

Зов Небес
«Если друг оказался вдруг,
и не друг, и не враг, а так…»
В.С. Высоцкий
Глава первая. Альпинист
Утро выходного дня не предвещало ничего необычного. Лето было в разгаре. Я шёл, своим привычным аллюром, по изрядно надоевшей улочке «бетонных джунглей» одного из спальных районов родного города. Крупнопанельные девятиэтажки нависали над пешеходной, объединённой с проезжей частью, дорогой, закрывая от обзора большую часть неба, позволяя солнышку лишь на излёте дня заглянуть в эту часть микрорайона.
Нежелание созерцать этот унылый пейзаж способствовало погрузиться в романтические и светлые мысли. О повседневности думать совсем не хотелось.
Уже почти два года я не бывал в горах, пропустив, правда, только один летний сезон. Для альпиниста это большой срок. Кого бы взять в напарники и куда бы «навострить лыжи»? Деньги на поход уже есть, есть и что семье оставить на это время: нашёл очередную работу в эти нелёгкие времена очередной смуты в России.
Вдруг меня окликнул молодой и какой-то знакомый женский голос. Боковым зрением я заметил две фигуры, обращённые ко мне. В одной из них я сразу узнал знакомую девушку Свету, мою одноклубницу, из развалившегося два года назад, вместе с Советским Союзом, альпинистского клуба. Интересно, как совпала эта встреча с моими мыслями!
Я круто развернулся в их сторону и подошёл.
– Привет, Света, очень рад тебя видеть! Давно не встречались…
– Привет, Андрей! Ты как раз мне и нужен! Наша встреча может оказаться удачной! – с надеждой в игривом взгляде, весело и приветливо ответила она.
Молодой человек, не знакомый мне, смущённо перехватил мой любопытный взгляд, оставшись на полкорпуса позади и сбоку, от шагнувшей навстречу мне Светке. Смутная догадка сразу проскочила в моей голове, вооружённой достаточным жизненным опытом:
«Очередной любовник» – подумал я.
Её игривое настроение и заговорщический тон только укрепили мою мысль. Как, впрочем, и тот нюанс, что Света не представила нас с её приятелем друг другу (что было обязательным в нашем кругу) и даже оставила его позади себя.
– Ты как здесь, в наших краях? – начала она издалека.
– Бываю здесь часто, «у тёщи на блинах», – и я указал небрежно правой рукой назад, в сторону дома родителей жены.
– А мы с Олегом живем вон в том доме… – указала она большим пальцем левой руки за свою спину, через плечо. – Ты можешь сегодня вечерком зайти к нам? Квартира номер пятнадцать. Олег ищет напарника для «связки». У него есть серьезное намерение: сделать восхождения на Алтае, на три вершины, стоящие рядом, или пройти по ним траверсом.
– Надо же, как интересно! Ты остановила меня, идущим с той же мыслью – найти напарника и сходить куда-нибудь, хотя бы и на Алтае.
– Вот это совпадение! Тебя нам бог послал. Я думаю, не тебя можно положиться, ты зарекомендовал себя надёжным человеком в экспедициях. Ты закрыл второй разряд? – от предвкушения удачного расклада расцвело её румяное, по-юношески конопатое лицо.
При этом молодой человек за её спиной тщетно пытался скрыть проявление на своём лице душевного удовлетворения складывающимся пасьянсом игры.
«Ах ты, рыжая бестия! – промелькнуло у меня в голове. – Вот как решила на время освободиться от мужа. Наверняка сама же и настроила его, домоседа, на поход. Я уж знаю тебя».
– Меня можно назвать второразрядником по классификации маршрутов восхождений. Договорились, сегодня же зайду к вам, – завершил разговор я, поспешив оставить влюблённую пару.
Со Светкой мы три года назад поработали в двух альпинистских экспедициях на Тянь-Шане и на Памире в составе нашего альпклуба, поэтому хорошо друг друга знали. Хоть ходили в составе разных групп и на разные категории маршрутов, но, обитая круглосуточно в условиях одного базового лагеря неделями, помимо желания узнали друг о друге главное, что нужно знать о человеке: надёжен ли он в деле. А однажды мы с ней на пару дежурили по кухне целый день и готовили еду на костре на весь лагерь, на тридцать семь человек.
В обеих экспедициях Светка беззастенчиво жила с одним альпинистом, как с мужем, ничуть не стесняясь коллектива, хотя все знали Олега – её мужа, как члена клуба. И никого это не смущало. «Свободный человек в свободной стране» – так говаривал один наш авторитетный инструктор, по разнообразным, конечно, поводам. Олег в тех экспедициях, по какой-то причине, не участвовал.
А год спустя, после того сезона, она и меня очень настойчиво приглашала к себе домой. Я тогда сразу догадался, что главной целью её приглашения было: завоевать мой «голос» при переизбрании председателя альпинистского кооператива – в свою пользу. Мягко и дипломатично я отказался от её приглашения и голосовал на собрании по своему усмотрению. То есть мы со Светкой и Олегом, ко всему прочему, в те времена ещё и состояли и работали в одном кооперативе, только в разных сферах деятельности. Олег со Светой – программистами, а я в промышленном альпинизме и в организации коммерческих горных походов. А бухгалтерия была общей.
В одном полевом сезоне, два года назад, мы с Олегом работали в паре на постройке базового лагеря и сооружении безопасных переправ через горные реки в красивейшем ущелье Горного Алтая для проводки туристов. Но натуру Олега при этом я не смог разглядеть, да и не старался, в тех условиях довольно простой совместной работы. Тем более что он был всегда замкнут, хмур и жёстко не разговорчив.
А кооператив наш, после единственного летнего полевого сезона по обслуживанию туристов на горных маршрутах, той же осенью развалился, вслед за страной. После этого нас со Светой и Олегом уже ничего не связывало, кроме приятельства.
Вечером того же дня я заглянул к Олегу и Светлане, как мы и договорились. Отворив мне дверь, Олег, ни слова не говоря, широким жестом пригласил меня в квартиру.
– Привет! – поздоровался я, протягивая ему руку.
– Привет, – нехотя ответил он, вялой кистью позволив пожать его руку, при этом «чувств никаких не изведав».
Я прошёл и присел, самостоятельно выбрав удобное для себя место, уже не ожидая дальнейших приглашений. Светланы дома не было, их сына тоже.
– Ну, Света сказала тебе что-то о моём плане? – лениво начал он.
– Почти ничего, – с наводящим намёком на подробности и соответствующим тоном ответил я.
– Есть мысль пройти траверсом по гребню трёх вершин вот здесь, с заходом через место нашего бывшего базового лагеря, – показал он, ткнув пальцем в карту, лежащую на журнальном столике подле меня.
– Хорошая идея! Идём вдвоём? – уточнил я, без слов это понимая.
– У тебя другое предложение?
– Не-ет! Меня устраивает и я готов. Когда выдвигаемся?
– На какое число будут билеты тогда и едем. Предлагаю тебе взять покупку билетов на себя. Если не возражаешь, то вот мой паспорт, а деньги верну при встрече, – он протянул мне документ, – Я беру палатку и групповое снаряжение, а ты возьми примус, бензин, котелок, топор, ножовку, ну и что там ещё… Верёвку ты понесёшь. Встречаемся на вокзале, перед посадкой, – подытожил Олег.
Уже у порога он вручил мне буфту альпинистской веревки и в спину легковесно бросил мне, через губу:
– Ну а из еды – кто что возьмет…
Я, молча и машинально согласился, не задумавшись. При этом какой-то тревожный звоночек у меня в голове подал знак, но я от него отмахнулся.
Больше всего мне понравилось в задумке Олега – это заход через ущелье, названное мною Ведьминским два года назад, с тех пор, как магнитом, тянущее к себе своей неповторимой красотой. Почему я его так назвал – это отдельная история. Её расскажу позже, ещё и потому, что она, отчасти, связана, с настоящей.
Нашему с Олегом тандему облегчало существование то обстоятельство, что всё Ведьминское ущелье, то есть первый этап нынешнего маршрута, я раньше проходил дважды туда и обратно. Ну а другие участки нам предстояло пройти впервые, для обоих, с помощью карты и по абрису.
Следующий этап маршрута пролегал через высокий, выше трех километров над уровнем моря, и длинный ледниковый перевал со спуском в красивейшее место (из первого десятка в Горном Алтае), к подножию «наших» гор. И уже с этого места нам предстояло предпринимать восхождения на желанные вершины.
Обоюдный азартный интерес всех троих (мой, Олега и Светы) был так силён, что мы как-то легкомысленно оставили без обсуждения и распределение между мной и Олегом списка и размера провианта на поход.
Через три дня, после той неожиданной встречи, мы с Олегом уже ехали в поезде на Алтай. Добравшись до Бийска и купив билеты на автобус до Горно-Алтайска, мы, довольные собой, устроились в скверике напротив автовокзала, в ожидании рейса.
Мой немногословный спутник погрузился в чтение книги, а я, впервые за долгое время, оставив дома городскую суету, позволил себе задуматься, чуть-чуть проанализировать прошедшие за два последних года события и одновременно внимательнее разглядеть своего партнёра. Мыслить о перспективах заработка на содержание семьи было опасно – это могло привести к депрессивному настроению. Потому, что каждые полгода до сего дня приходилось искать новую работу. Хорошо, что она (работа) быстро сама меня находила.
Тогда, имея достаточно свободного времени, я стал впервые пристально присматриваться к своему спутнику. Однако, мы с Олегом едва знакомы, на маршруты вместе не ходили, «из одного котелка не едали». И что-то в подсознании меня насторожило вдруг: как-то сложится наш тандем? Парень сдержанно-заносчивый, но супер спокойный и закрытый, что называется, на все засовы, «тёмный», в общем, товарищ.
Подходим с ним на посадку в автобус (в назначенное, согласно билетам, время), а наш рейс, оказывается, ушёл два часа назад. Оказалось, что на Алтае другой часовой пояс, не как в нашем городе. А мы-то впервые поехали туда общественным транспортом. Это был уже второй, как я уже позже осознал, хоть и небольшой, но прокол (второй звоночек) в нашем партнёрстве.
Слава богу, что на следующий рейс нас посадили по тем же билетам. Но водитель нагло содрал с нас дополнительно денег за багаж, хотя у нас были чеки, подтверждающие оплату за него через кассу. В те, наступившие времена крушения нравов, это было почти в порядке вещей. И, чтобы исключить ещё одну задержку, мы безоговорочно согласились с требованием шофёра. А когда мы приехали в Горно-Алтайск, то попали в опустевший автовокзал. Все автобусные рейсы в разные районы Горного Алтая в этот день уже разъехались.
Предстояло заночевать до следующего дня. Расположенная у вокзала гостиница, обслуживающая в прежние времена преимущественно туристов, перестала работать ввиду отсутствия последних. Порядок в стране нарушен, туристы, ранее массово посещающие этот сказочный край, стали заниматься интенсивным заработком. А иные, потеряв работу, – впали в депрессию от безденежья. Всем стало не до досуга, не до походов и не до сплавов.
Мы были одни в здании вокзала. Он был пуст не только от людей, а представлял собой заброшенный во всех отношениях «спортзал» с двумя, взятыми чуть ли не с улицы, скамьями.
Бродить по вечернему городу в поисках ночлега с рюкзаками, килограмм по тридцать пять весом, нам совсем не хотелось. Да и по тем временам считалось нормальным, у самоорганизованных туристов: бросить на пол в вокзале туристский коврик (каремат), на него спальник и, не глядя ни на кого, лечь спать. Только спустя несколько лет запретят таким образом ночевать в зданиях вокзалов и будут на ночь запирать на ключ их помещения, выгоняя всех незадачливых транзитёров.
А в тот вечер в зал ожидания (он же и кассовый), уже позже нас, зашли какие-то, бомжеватого вида люди, без выражений на лицах. Очевидно, местные. Они, возможно, тоже, в ожидании утренних рейсов автобусов, были вынуждены ночевать тут, как и мы.
Наш рейс ранним не был. Часами ожидая его отправки, мы успели скромно перекусить, посетив открывшиеся продуктовые магазины. В те времена рейсы автобусов в глубинки были особо редки, по одному в день. Ехать нам предстояло по Чуйскому тракту известной красоты, через два высоких и живописных перевала.
Автобус был старым ПАЗ-иком, ехал неспешно, с обеденной стоянкой в райцентре Шебалино. На нашем пути лежали территории четырёх административных горных районов. Невысокая скорость движения была обусловлена и износом машин, и безопасностью на горной дороге по ещё привычным, для водителей, жёстким правилам со времён СССР. И расписание водители на междугородних рейсах, даже в тех глубинках и по тем же причинам, старались соблюдать.
Салон автобуса набился местными жителями. Мы едва смогли занять сидячие места, нумерацию мест никто не соблюдал. Сидя ехали пассажиры, которые добирались в дальние районы, а стоя – на короткие расстояния. Водитель останавливался в каждом посёлке, даже если последнего не было видно в изгибах горного рельефа, высаживал одних и подбирал других пассажиров. Все они, в подавляющем большинстве были представителями местных племён, коих в Горном Алтае больше десятка (по моему личному исследованию, в отличие от официального перечня).
Один такой представитель, изрядно пьяный молодой человек, не очень вежливо попросил меня подвинуться, сославшись на свою усталость. Я уступил и мы с Олегом, оба щуплого телосложения, уплотнились на двухместном сидении, а тот, с силой двинув нас тазом, устроился на краю дивана. Но парню этого было недостаточно, и он стал осыпать меня вопросами, типа: кто такие, откуда, куда, зачем, в общем, ничего высокомысленного.
По нашему походному виду и большим альпинистским рюкзакам европейского класса цель нашей поездки была, конечно, очевидна всем окружающим. И я, неохотно и скупо, всё-таки отвечал ему, снисходительно, всё же уважая в нём представителя малого народа. Как антропологу-любителю, мне, даже в такой обстановке, всё равно интересно наблюдение за людьми разных этносов и контакты с ними.
Со своей стороны, молодой алтаец, видимо, желая продолжить беседу, стал жаловаться на свою жизнь, уже впадая в пьяную полудрёму:
– Вы там, в своих городах живёте в комфорте, а я тут, в суровых условиях наших гор, гроблю здоровье, выпасая скот круглый год… – и сразу после этих слов он уронил на грудь свой подбородок, кажется, угомонившись.
Я был удивлён такому контрасту хорошо поставленной речи этого парня и его узкому местническому сознанию. Видно, хорошо учился в школе русскому языку, но мировоззрением своим сразу упал в моих глазах.
Через минуту он уже стал валиться всем телом на меня и головой на моё плечо со словами – цитатой из известного художественного фильма «Земля Санникова»:
– «…человек, человек, чего тебе дома не сидится, что тянет тебя в дорогу…».
При этом его соплеменница среднего возраста резко стала на него ругаться и стыдить. На смешанном русском и алтайском языках она выпалила:
– Как тебе не стыдно!!!? Напился, привязался к порядочным людям, не видишь – люди в экспедицию едут!
И ещё на своём языке ему очень грубо что-то добавила. Парень, как ужаленный, подскочил с места и стал протискиваться между стоящими пассажирами к выходу, видимо, близка была его остановка.
Доехав до излучины реки Чуи, мы попросили водителя высадить нас в чистом поле. Остановки здесь не предусмотрено, поскольку населённых пунктов на десятки километров нет ни в одну сторону.
Долина реки расширялась здесь многими милями чудесного альпийского луга между двух высоких скалистых хребтов. Наш путь лежал в сторону водного потока по этому, не тронутому человеком, сказочного вида травяному ковру.
С силой преодолевая сопротивление почти метровой в рост, зелёной и сочной травы, под палящим солнцем, в сладком предвкушении счастья: встать на тропу своего маршрута, освободившись от людской толчеи в душном салоне автобуса, на излёте дня, мы стали спускаться с трассы к реке.
Эти несколько сотен метров мы с трудом разминали затёкшие в транспорте ноги. Глаза радовались, взглядом обводя очертания любимого пейзажа.
Свинцового цвета воды реки, как вязкий поток тяжёлого цементного раствора, нехотя, но стремительно, утыкались в скалу. Круто и мощно, с недовольством и возмущением, даже не вспениваясь от своей тяжести, они поворачивали в направлении желанного нами ущелья. Вот через эту скалу, называемую прижимом, потому что река к ней прижимается, и лежал первый участок нашего маршрута.
Скала как будто вырастала из прибрежной поляны и вертикалью наглухо перегораживала нам проход своей стеной. Но с помощью рук, то есть простым лазаньем, её здесь не сложно преодолеть, главное – увидеть «ступеньки» и «дверные ручки» начала подъёма на неё. Такими терминами альпинисты называют мелкие выступы на скальной стенке.
Дальше скальные участки, состоящие из выходов магматического происхождения, полузасыпанных за миллионы лет осадочными породами, гармонично перемежались густыми зарослями ивняка и кустарника, а также большими уютными полянами. Но нам некогда было млеть среди этой благодати. Мы стремились к ледниковым вершинам…
Поднявшись на самый верх прижима, я, с чувством радостной встречи с полюбившимся ущельем, остановился на минуту, охватив жадным взглядом картину поросших хвойным лесом склонов. Внизу, срываясь с высоты, встречаясь, будто две сестры, объединяясь в один поток, шумели реки. Этот контраст застывших гор, с лоснящейся «шкурой» лесных крон, и ревущей водной стихией возбуждал в душе стремление вперёд с одновременно умиротворяющим успокоением.
Затёкшие за долгий переезд ноги, как застоявшийся конь, получали удовольствие от излюбленной нагрузки на горной тропе. И всё тело радовалось аромату горного воздуха, концентрации первозданной природы и даже привычной для альпиниста тяжести рюкзака.
Крутой спуск по серпантинной тропе травяного склона к мосту через ревущий поток был открыт, как на ладони, и приглашал к переходу на бег. Удивительно, как бурлящая и грохочущая, особенно весной, водная артерия не сносит это деревянное, но добротно собранное из многовековых брёвен, сооружение, что с высоты выглядит игрушечным в масштабах горной стихии. Спустившись к реке и пробежав по вибрирующему под воздействием возмущённой до предела воды мосту, через час мы уже поднялись по крутой и короткой тропе на высокий яр, нависающий над слиянием двух рек.
Здесь была чудная поляна с низкорослой мягкой травкой. Солнце уже почти касалось гребня нашего склона, и мы решили тут ночевать, не смотря на отдаление от воды, зная, что до более удобного для ночёвки места было по светлому времени не дойти.
– Андрей, спустись к реке за водой, а я поставлю палатку и займусь костром, – предложил Олег.
– Хорошо, давай свой котелок, я с двумя схожу, чтобы вдоволь чаю попить.
Ближайший спуск к воде был очень крутой, чуть меньше ста метров, заросший густой травой и требовал кошачьей осторожности из-за отсутствия тропы. Стоит на зелёной траве поскользнуться и уже не будет возможности остановиться, покатишься, как по ледовому склону. В самом низу, где угол наклона стал положе, я немного отпустил себя и сходу влетел в заросли дикой чёрной смородины, по грудь забурившись в её кусты… Садовая – отдыхает! Меня окутал и одурманил аромат невиданной силы. Ягоды, размером с ноготь среднего пальца человеческой руки, тяжёлыми полными гроздьями висели вокруг меня, готовые упасть от своей зрелости и веса. Такой сладкой смородины я в жизни не пробовал. Своим вкусом ягода совмещала смородину и красный виноград.
Потеряв контроль над временем, я ел горстями, успевая подставлять ладони под гроздья, а ягоды сами сыпались в руки. По всему было видно, что здесь нога человеческая ещё не ступала. Спуск крут, сверху смородины не видно, останавливаться даже на короткий привал здесь не имеет смысла за отсутствием водного источника. Только нас здесь остановил близкий закат.
Наконец я опомнился, нарвал смородинного листа для чая и спустился к воде. Подниматься с наполненными водой открытыми котелками было не проще, из-за опасности расплескать живительную влагу.
Когда поднялся к палатке, то Олега там не обнаружил. Костра ещё не было. И я сразу же им занялся. Ставить палатку данной конструкции было минутным делом одному человеку, дрова – в десятке шагов до ближайшего леска.
Солнце уже скрылось за горизонт. Я сделал таганок для подвески котелка над костром и собрал дров. Огонёк в костре у меня уже затеплился, как всегда с одной спички, когда появился мой спутник, выходя из леса с упрёком ко мне:
– Ты куда пропал? Я уже подумал, что ты сорвался с кручи. Пошёл тебя искать… – начал он, на последних словах опустивши голову и понизив голос.
– Ты же с другой стороны пришёл, – подначил я.
В ответ Олег пробубнил себе под нос что-то невнятное, а я стал готовить ужин. Сварил лапшу на бульоне из кубиков. Поужинали вприкуску с твёрдым сыром. За трапезой я поделился с ним впечатлением о смородине.
– А мне почему не принёс? – с новым, ещё большим, упрёком возмутился он.
– Ну, тут или воду, или ягоду, котелки то маленькие. Не во рту же ягоду нести.
– А в карманах? – не вникая в суть, продолжил он.
– В карманах я бы только кашу донёс, а сок ягодный намочил бы мне штаны. Ты не представляешь, какая она там нежная от переспелости, в ладонях лопалась.
После моего пояснения Олег стал темнее тучи. А после ужина, через некоторое время, он неожиданно спросил:
– Что у нас с продуктами?
– Мы же с тобой договорились ещё дома у тебя, что каждый возьмёт долю на своё усмотрение – твои были слова, – напомнил я.
– Поскольку у меня снаряжения больше, чем у тебя, то я полагал, что продукты запасёшь ты, – стал Олег рисовать свой козырь вчерашним числом.
– Полагать уместно, когда идешь, куда ни-то, один. Мы оба сделали ошибку, легкомысленно не договорившись. А сейчас дискутировать поздно и бессмысленно, – подытожил я.
«Кажется, теперь мы будем долго молчать, – подумал я, – Вот это прокол! – смутные мысли сразу закрались, – С кем я связался? В первый же день и сразу столько проявлений жёсткого эгоизма. Что ж – теперь и с этим фактом, но вперёд. Не разворачиваться же. Просто придётся сокращать наши планы где-то и как-то. Может, хватит на то, чтобы совершить хоть одно восхождение, а назад – хоть на подножном корму», – это был уже третий тревожный звоночек у меня в голове.
–Ну… у меня есть немного кое-каких продуктов… – вдруг через долгую паузу изрёк мой напарник вполголоса.
«Ну, хоть так» – подумал я.
Больше слов ни у кого не было. Легли спать. Только перед самым засыпанием я сообразил, что бивуачного снаряжения у меня в рюкзаке больше. И поэтому вес наших с ним поклаж всё-таки не в паритете. Вот ведь хитрец! Он, наверное, подумал, что раз он руководитель, это его маршрут, и он перворазрядник (насколько я наслышан), то я, значит, должен его кормить.
Да, вот так сказалась на нас эйфория бешеного темпа этой новой жизни в диком капитализме. Поэтому собрались в серьёзный поход как попало. Понятно мне, что Олег привык к порядку в базовых альпинистских лагерях. Там он не заботился о продуктовом наборе, как, впрочем, и я: нас просто кормили. В любой экспедиции одна из женщин добровольно брала на себя обязанность заведовать кухней и заготовкой провизии, а также составлением раскладки последней в соответствии с меню на каждый день. Она же распределяла обязательства между всеми участниками компании: кому, что и сколько закупать из общего списка продуктов и, соответственно, нести в своём рюкзаке. График дежурства по кухне тоже составляла она и звалась поэтому – завжор.
Проснулись мы от призыва:
– Ну вы и спать горазды, туристы! Уже давно белый день! – раздался снаружи чей-то мужской голос, быстро, однако, удаляющийся.
По приглушённому топоту лошадиных копыт, удаляющемуся вслед за голосом, я понял, что мимо проехал по тропе местный житель, видимо пастух или косарь – на покос травы.
Солнышко уже разогрело воздух в палатке до схожести с прогретым предбанником, приправленным запахами только снятого с тел нечистого белья. На этом высоком яру солнце восходит рано. Мокрые от пота, мы стали быстро выползать из своих пуховых спальников. Вылезши из палатки, я сразу пошёл за водой для завтрака вчерашним путём. И снова, с превеликим удовольствием, наградил себя за этот труд сладкой ягодой на голодный желудок.
Наскоро позавтракав на солнцепёке и не теряя больше драгоценного времени светового дня, мы спешно и в максимально возможном темпе двинулись в путь. Перед нами лежало травяное поле левого склона ущелья в несколько квадратных километров. Здесь, в низовье ущелья, как и во всех горах средней полосы, простираются альпийские луга.
Наступило привычное состояние первого дня похода пеших туристов: под палящим солнцем (в ясную погоду), мечтая быстрее зайти в тень леса, виднеющегося далеко впереди, под тяжестью рюкзака, со взмыленной от него спиной, терпеливо адаптироваться к походной нагрузке.