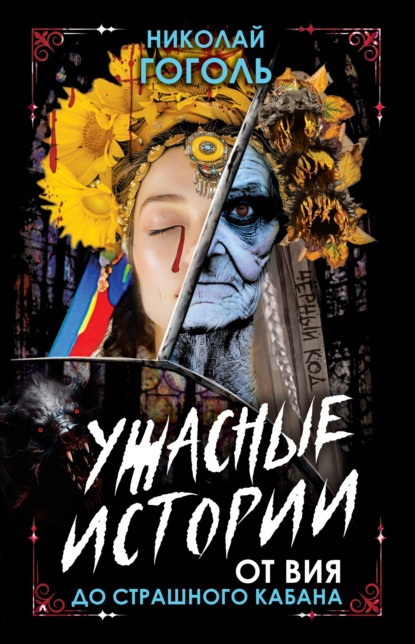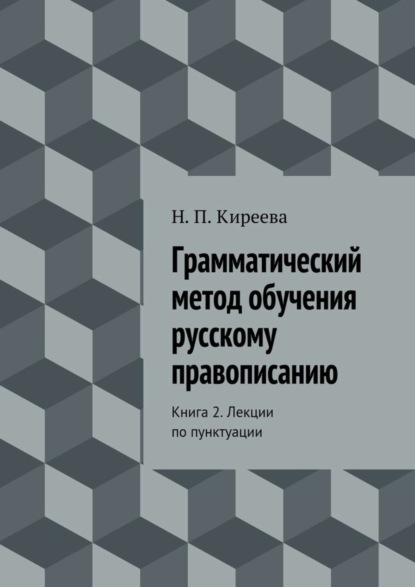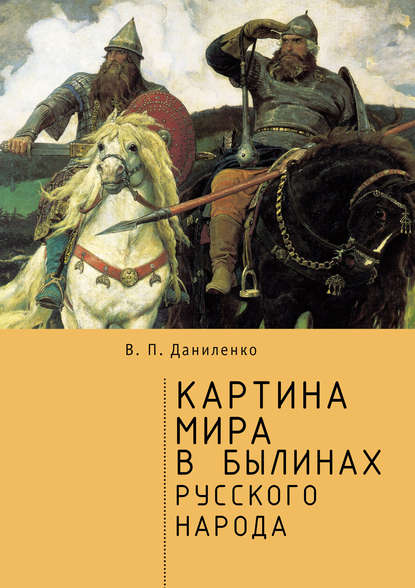Один из двухсот

- -
- 100%
- +
Так почему же тревога?
Я открыл навигационные данные. На экране появилась таблица со скоростями, траекторией и текущими координатами. Мы достигли крейсерской скорости – 1020 км в секунду. Прошло ровно 30 лет с момента старта. За окном – бескрайний космос. Мы плыли, отрезанные от всего живого, к нашей цели: звезде 86 Эридана – яркой, жёлто-белой, класса F8, на расстоянии 19,7 световых лет от Земли. Там была одна экзопланета, похожая на Землю по массе и орбите, – хотя никто не гарантировал её пригодности к жизни. По расчётам, наш путь должен был занять 5898 лет, если считать чистую баллистическую траекторию, без учёта ускорения и торможения, которые могли растянуть путь ещё на десятилетия.
Энергии хватало. Всё в порядке. Но тревога была реальной. Что-то всё-таки пошло не так.
Я поднял глаза к куполу и вывел изображение с наружных телекамер. Передо мной, в иллюминаторе, распласталась часть галактики. Сотни миллиардов звёзд. Великолепная завораживающая спираль – Млечный Путь. Тонкая серебристая пыль протянулась от горизонта до горизонта, пронзённая тонкими нитями тьмы – космической пыли и газа. И где-то там, внизу, на самом краю света, когда-то была Земля. Сейчас её не существовало.
Я перевёл взгляд на технический отчёт. И застыл.
Повреждён солнечный парус.
Холод растёкся по спине. Грудь сдавило. Я начал судорожно прокручивать журналы системы. Диагностика показала: через три дня после старта парус был полностью раскрыт и начал разгон. Всё шло по плану. Когда подтвердилось, что траектория стабильна, автоматика отработала как надо: сначала пассажиры один за другим ушли в сон, затем – мы: я, капитан и навигатор. Управление перешло к автопилоту. Он должен был взять всё на себя. В том числе и сложение паруса.
Это была обязательная процедура: после выхода на крейсерскую скорость – парус убирается. В разреженном межзвёздном пространстве он бесполезен. Напротив – опасен. Его могли повредить даже микроскопические частицы: микрометеоры, пыль, фрагменты старых комет, а также потоки жёсткого излучения. Даже случайный пучок протонов, пронесшийся с околосветовой скоростью, мог прожечь дыру в полотне размером с футбольное поле. Поэтому после разгона механизм должен был аккуратно свернуть парус, сложить его в защитный контейнер, запечатать и задраить.
Но в отчёте стояло: «Сбой. Парус не сложен. Заклинивание секции А-3».
Чёрт!!!
Я вспомнил: завод под Мехико работал в авральном режиме. В последние годы каждая секунда была на счету. Проверки были условными, допуски – гибкими, стандарты – ослаблены. Мы все это знали. Но молчали. Все торопились. Все хотели успеть. Тогда никто не думал о тысячелетиях вперёд.
А потом взорвалось Солнце.
Как и предсказывали. Без лишней театральности. Просто – вспыхнуло. Яркость на долю секунды возросла в миллиарды раз. Внешние оболочки отброшены в виде огненного кольца, которое мчалось сквозь систему, выжигая всё на своём пути. Земля испарилась. Луна расплавилась. Юпитер взорвался паром. А нас, уже разогнанных и ушедших на край солнечной гравитации, догнала ударная волна. Мы находились достаточно далеко, чтобы не погибнуть, но… удар пришёлся по парусу.
Я вывел изображение с инженерных камер.
Передо мной – страшная картина. Трос из углеродных нанотрубок, некогда натянутый как струна, теперь провис. Обрывки солнечного паруса – как гигантские обгорелые лепестки, обвисли в пространстве. Они колыхались в невесомости, разодранные, рваные, с дырками размером в дом. Блеск алюминиевого напыления был потускневшим, как старая фольга. Некоторые части были полностью оторваны и унесены в темноту. Сшить это было невозможно. Починить – тем более.
Мы потеряли основной двигатель.
Мы летели. Но теперь – по инерции. Без возможности ускориться, затормозить, повернуть. Как выброшенная в бездну бутылка. С посланием внутри.
Автопилот, следуя алгоритму, пришёл к выводу, что повреждение паруса – инженерная проблема. И потому разбудил именно меня. Сухая логика, холодная, как металл. Я – инженер. Значит, разбирайся. Только он не учёл, что на катастрофу такого масштаба я не был рассчитан. Никто не был. Это была не поломка – это был конец.
Парус восстановить было невозможно. Он был уничтожен – разорван, испепелён, исполосован миллионами микроскопических ударов. Его не просто нужно было отремонтировать – его нужно было заменить целиком. А это значило – построить заново. Но завод, где производили солнечные паруса, тот самый, что стоял в пустыне Мохаве, давно уже испарился на атомы, как и всё на Земле. Его больше не существовало. Ни заводов, ни станков, ни чертежей, ни рабочих. Только память.
Задача нерешаема.
Я мог бы разбудить капитана и навигатора. Но зачем? Они не инженеры. Их знания не помогут починить парус, которого больше нет. В лучшем случае, они просто сядут рядом и будут смотреть на обломки.
И никто не придёт на помощь. Мы знали это ещё до старта. Все 2111 кораблей шли в одиночку, по своим маршрутам, разбросанным по всей галактике. Между нами не было связи, не было спасательных модулей, не было возможности перехватить курс другого корабля. Мы были, как бутылки в океане – каждая в своём течении.
«Спасение утопающих – дело самих утопающих», – вспомнил я старую земную пословицу. Глупую. Правдивую.
Вздохнув, я встал и отправился в камбуз – узкое, компактное помещение с низким потолком и округлыми стенами, словно вырезанное из старого подлодочного корпуса. Рассчитан он был на пятерых: трое экипажа и максимум двое добровольных помощников из числа пассажиров, если кому-то вдруг захочется поучаствовать в рутине. Но сейчас здесь был только я.
Металлические панели на стенах, встроенные автоматы с распылителями еды, синтезатор запахов, кнопки для запекания, водяной узел, термошкаф. Стол в центре – складной, с фиксаторами для посуды. Я включил обогреватель, открыл вакуумную упаковку и поджарил ломтики синтетического бекона – с хрустящей корочкой, ароматом копчения и жиром, который быстро свернулся плёнкой. Затем достал из морозильной ячейки замешанный белковый субстрат – и испёк из него хлеб. Он поднялся в термокамере, набрал форму, и я резал его горячим, с паром. Затем налил себе чашку кофе – настоящего, из личного запаса, который я тайком пронёс на борт. Горький, густой, с запахом прошлой жизни. Он обжигал язык и душу. Я ел медленно. Не от голода, а чтобы собраться с мыслями.
За узким иллюминатором пылала Вселенная. Безмолвная, бесконечная, равнодушная. Та самая, что с детства манила меня. Я читал о ней, мечтал, рисовал траектории, строил модели звёзд. Мне казалось – она ждёт меня. Оказалось – нет. Там, за бортом, расстилалось космическое кладбище: звёзды – умирающие шары из гелия, планеты – мёртвые, холодные шары из камня и льда, туманности – развалины древних взрывов, напоминания о том, что всё когда-то горело, и всё когда-то исчезнет. Даже свет – и тот доходил сюда, ослабевший, уставший. Красота – да. Но прах и пустота.
Я извлёк планшет. Металлический, с тактильной рамкой и 3D-экраном. Активировал. Фотографии – семейный альбом, сохранённый в буфере, под грифом «Личное».
Жена. Трое детей. Смеются. Бегают. Обнимают меня. Вот дочь в школьной форме. Сын в спортивной куртке. Младшая с плюшевым кроликом. Жена – в саду, босиком по траве.
Все они остались там. Все они сгорели. Им не хватило места на борту корабля с номером 2111. У нас не было миллиардов, чтобы купить все эти места. Не было титулов, власти, связей. Мы были простыми гражданами. И я спасся… потому что был нужен тем, кто меня нанял. А они – нет.
Я стиснул зубы. Руки дрожали. И… слёзы хлынули сами собой. Без предупреждения. Как прорыв дамбы. Поток горячий, стыдный, бессильный. Я закрывал лицо ладонями, всхлипывая, пытаясь сдержать рыдания, но из груди рвался животный стон – как будто меня распиливали изнутри.
Так как знал: я их предал. Отавил их. Не защитил. И выбрал себя. Я принял это решение – подписал, согласился, ушёл.
А они сгорели. Сгорели в злобном, беспощадном пламени Солнца, которое взвилось в небо, опрокинулось на планету, разорвало атмосферу, расплавило города.
Они кричали, они умирали, а я… спал. В безопасности. Под охраной автоматики.
На борту холодного, несущегося в никуда корабля, который теперь стал нашей общей могилой.
Я не знал, как жить с этим. И не знал, зачем теперь жить вообще.
86 Эридиана – тусклая, желтоватая звезда спектрального класса K, медленно стареющая, но ещё полная сил. У неё действительно были экзопланеты, как минимум две из них – в пределах обитаемой зоны, и хотя атмосфера не была подтверждена, а химический состав поверхностей оставался в тени догадок, надежда теплилась. Даже если лишь на 20% условия приближались к земным – кислород разрежен, давление нестабильное, климат суров – всё равно у нас был шанс. Мы могли построить купола, запустить терраформинг, выращивать пищу в гидропонных модулях. Мы могли адаптироваться, научиться жить в этом мире. Пусть тяжело, пусть с потерями – но жить.
Такая же хрупкая вера питала экипажи и пассажиров 2110 других кораблей, рассыпанных по небу, словно зёрна по полю, с надеждой на жатву.
Глизе 570, остывающий карлик с экзопланетой, покрытой вечными ветрами.
Глизе 832, с её массивным супержителем, который мог скрывать в ореоле свою луну – потенциально пригодную для жизни.
Глизе 876, мутная, но стабильная.
Тау Кита, один из самых похожих на Солнце кандидатов.
Эпсилон Эридана – шумная, переменчивая, но с красивым поясом астероидов, за которым могли скрываться пригодные миры.
Я знал, что десятки кораблей устремились к Альфе Центавра, к трём солнцам, надеясь найти среди них своё новое небо. Возможно, кому-то повезёт. Возможно, они построят колонии, и однажды мы получим от них сигнал. Хоть какое-то подтверждение, что человечество не исчезло.
А если не повезёт? Тогда у нас, у 2111-го корабля, были резервные цели – ещё несколько звёзд, внесённых в каталог: Лаланд 21185, YZ Цефея, Зета Тукана, Вольф 359. Их атмосферы, температуры, наличие спутников – всё это было неясно, туманно, но…
У нас было время. Целых четыре тысячи лет, пока атомный реактор будет поддерживать жизненные системы и навигацию. В теории, мы могли продолжать лететь. Искать. Скитаться между звёздами, как блуждающий ковчег. Может, где-то повезёт.
Но всё это уже было пустым мечтанием. Потому что парус уничтожен. И теперь мы не войдём в орбиту 86 Эридиана. Не замедлимся. Не сбросим скорость. Мы просто пролетим мимо, словно призрак.
Навигатор покажет, конечно, – куда выведет инерция, какие объекты будут на пути.
Но зачем мне знать, во что мы врежемся через 3000 или 4000 лет?
В чёрную дыру? – тихое, но абсолютное поглощение. В астероид? – взрыв, разрыв корпуса, смерть мгновенная. В холодный юпитер? – газовый гигант с адскими бурями и гравитацией, которая смнет нас, как консервную банку. Какая разница? Всё это – смерть. Просто отложенная.
Я поднялся в жилой отсек, где должны были отдыхать пятеро. Кровать, встроенная в нишу, с автоматическими ремнями и биомониторами. Туалет, закрытый, без запаха.
Душ – с водяным циклом на замкнутом обороте. Экран – мог транслировать фильмы, галереи, старые новости Земли.
Я лег. Закрыл глаза. И видения прошлого всплыли сразу.
Она. Любимая. Тёплая. Живая. Я обнимал её, вдыхал аромат кожи. Она смеялась, уткнувшись лбом мне в грудь. Наши первые встречи в университете: лекции, на которых мы не слышали профессоров, только сердца друг друга. Поцелуи в библиотеке, в студенческом общежитии. Прогулки в ночных парках, под шелест листвы и свет луны.
Потом – брак. Семья. Дети.
Наша квартира в Винтертуре, купленная в ипотеку, с окнами на парк, с криками детей по утрам и запахом кофе на кухне. Прогулки на паруснике по Цюрихскому озеру: солнце в воде, ветер в волосах, её ладонь в моей. Поход на Мачу-Пикчу: высоко, дыхание сбивается, но она улыбается на фоне древних стен. Скачки в Техасе: шляпы, гамбургер, горячий воздух и наш безумный смех, когда наш конь пришёл последним.
Мы любили друг друга. Мы любили жизнь. Мы жили. Мы наслаждались каждым моментом.
Мир казался вечным и прекрасным. И теперь он – мертв. А я… Остался жить. В одиночестве. Впереди – ничто.
У меня не было ответа на мучительный вопрос: что делать? Или, точнее – что дальше? Корабль, оставшийся без основного двигателя, как бесцельная металлическая бочка, продолжит движение по инерции, послушно подчиняясь законам гравитации и инерции, не ведая больше цели, маршрута, смысла. Я же… я останусь в этом огромном, пустом чреве корабля, отгороженном от остальной Вселенной тонкой оболочкой обшивки. Я буду жевать запасы, предусмотренные для всей команды, погружаясь в воспоминания и отчаяние, как в вязкое болото.
Поначалу, возможно, я стану держаться – мыть руки, питаться по расписанию, записывать какие-то заметки в журнал. А потом – начну забывать, что такое день, а что такое ночь. Вспомню, как это – рыдать в голос, пока не заболит грудь. Буду разговаривать сам с собой, потом – с мебелью, потом, возможно, с мёртвыми. Депрессия станет моим спутником, неотступной тенью, лезущей в душу сквозь вентиляционные решётки и зеркала. Идея суицида, конечно, не замедлит явиться – сначала как шёпот, потом как голос, потом как приказ. Она повиснет надо мной, как тонкая стальная нить, как дамоклов меч над шеей, как код доступа к выходу из безысходности.
Я не хотел никого будить. Не потому что мне не хватит еды, кислорода или места в каюте. Нет. Просто я не мог позволить людям проснуться в кошмар. Проснуться и понять, что вся надежда рухнула, как солнечный парус, изорванный взрывной волной. Они проснутся, поднимутся, оглянутся – и увидят, что летят в никуда. Что всё кончено, но смерть ещё не пришла. И тогда начнётся паника. Разочарование в жизни, в науке, в спасении, в себе. Представь себе, как будет выглядеть женщина-сенаторша, осознавшая, что её родители и близкие погибли на Земле, а она – чудом выжила, только чтобы умереть медленно, в одиночестве, в холоде бесконечного космоса. Представь глаза мужчины, бывшего банкира, когда он впервые поймёт, что кислорода осталось на шесть месяцев, еды – на восемь, а на борту семьдесят ртов. Представь, как начнётся делёжка пайков, потом – ссоры, потом – драки. Люди будут рвать друг друга руками, выбивать зубы за банку бобов, за последний баллон с кислородом, за дозу успокоительного. Они будут врать, красть, убивать, как это случалось на разбившихся кораблях, на тонущих плотах, в горах, в джунглях, на всех границах человеческой выносливости.
Я вспомнил книги, которые читал в детстве. История французского фрегата «Медуза», потерпевшего крушение у берегов Африки – выжившие на плоту убивали слабых и ели их плоть, прежде чем спасти остатки человечности. Историю рейса 571 – самолёта, разбившегося в Андах, где пассажиры вынуждены были питаться телами погибших, чтобы выжить в леденящем аду. Или рассказ о крейсере «Индианаполис», чей экипаж оказался в воде, окружённый акулами, страхом и безумием. И всё это повторится – но уже не на воде, а в вакууме, где не услышишь ни одного крика. Здесь не будет даже акул – только пустота.
– Этого не должно быть на борту моего корабля, – сказал я себе. – Ни при каких обстоятельствах.
Если даже мне суждено умереть, то хотя бы в тишине. Без резни, без мольбы о спасении, без того, чтобы видеть, как человек превращается в хищника. Пока у меня есть сила, я сохраню им сон. Сохраню их покой. Пусть останутся в криокапсулах – в безопасности. Пусть продолжают свой сон, в котором, возможно, они видят землю, детей, солнце. Не я лишу их этой последней милости.
Я вновь подошёл к иллюминатору и застыл в ожидании – будто мог увидеть там что-то новое. Но за прочным многослойным стеклом всё было тем же: вечная тьма, пронизанная остроконечными, как иглы, звёздами. Они не мерцали – не было воздуха, чтобы их свет дрожал. Там, за стеклом, царил абсолютный вакуум, стерильный и холодный, как сама смерть. Жизни там не было, и, если быть честным, её не было и здесь. Внутри корабля тлел лишь иллюзорный её отблеск – сохранённый температурой, искусственным давлением, системами фильтрации и автоматикой. Все пассажиры, как драгоценные экспонаты, хранились в криоотсеках – замороженные, остановленные в моменте, будто кто-то нажал паузу в фильме. Их сердца не били, лёгкие не шевелились. Фактически – мёртвые. Только я оставался жив, и то – с натяжкой. Возможно, живым можно было назвать и бактериальную культуру в камбузе.
Я встал и двинулся по кораблю, медленно, без спешки, как ночной сторож, обхаживающий пустой завод, где давно остановлены станки. Я проходил мимо секций: грузовые контейнеры, блоки контроля, шлюзы, кабины отдыха. Всё работало в штатном режиме – тишина, ритмичные сигналы систем, ровный пульс реактора. Я проверял фильтры, уровень окисления, давление в баллонах, стабильность терморегуляторов. Всё ещё работало. Машина жила, как может жить автомат, не ведающий смысла.
И тогда во мне созрело решение. Я останусь. Буду обслуживать корабль, поддерживать его в порядке, пока есть еда, вода, кислород, пока пальцы держат инструменты, а мозг не превратился в пульсирующее месиво. А когда всё закончится – когда последний пакет сублимата будет съеден, когда генераторы перестанут гнать кислород, а вода уйдёт по последним молекулам на умывальник – я лягу в криосон. Лягу сам. Не с надеждой, нет. Я точно знаю, что никогда не проснусь. Автоматика не оживит этот режим – приоритет перезапуска заблокирован. Мы больше не запланированы к жизни.
Корабль станет братской могилой, замурованной в звёздной пустоте. Семьдесят человек – не спасённые, а ушедшие. Семьдесят неудачников, как скажет кто-нибудь, если кто-то когда-нибудь прочтёт наши чёрные ящики. Мы отказались от умирающей Земли, предали тех, кто плакал на прощание, кого не успели взять с собой – родителей, друзей, детей, возлюбленных. Мы ушли – и ответом стало молчание, безмолвие межзвёздного пространства. Оно не судит, не наказывает, но и не спасает.
А разорванный парус, болтающийся на тросе из углеродных нанотрубок, будет маяком. Он останется нашим флагом, нашим надгробием и символом. Памятником надежде, которая когда-то взвилась к звёздам – и распалась на клочья.
(28 июня 2025 года, Винтертур)WOW
(Фантастический рассказ)
Я студент второго курса математического факультета. Не скажу, что особо умный, но и не дурак. Из тех, кто не блистает на олимпиадах, но может докопаться до сути, если вжиться в задачу. Математика мне не давалась легко, но в ней было что-то родное: стройность, чёткость, порядок – как будто весь мир можно было переписать через формулу и всё станет на свои места.
Факультет я выбрал, можно сказать, по приколу. Мама грезила тем, как я, щеголяя в строгом костюме, иду по коридорам Министерства иностранных дел, ловко лавируя между интересами держав. Отец видел меня в пиджаке из дорогой ткани, с телефоном в руке и портфелем контрактов – в его мире бизнес действительно «рулит», особенно если ты успел вскочить в нужный вагон.
Я стоял между двумя уверенными в себе мирами и не знал, в какой прыгать. Решил не прыгать ни в один. Вдохновился, если честно, страданиями сестры: она плакала ночами, учась на стоматолога, хотя мечтала шить платья. Тогда я сказал себе: «Выберу сам».
Взял лист с названиями факультетов, закрыл глаза и ткнул пальцем. Математика.
Мама, когда узнала, покачала головой с выражением «ну что ж, пробуй». Отец буркнул: «Выбрал себе судьбу библиотекаря». А я почувствовал: это мой выбор, хоть и сделан наугад. И отвечать за него буду только я.
Оказалось – не зря. Интегралы зацепили меня как загадочные реки, у которых есть начало, течение и скрытая логика. Логарифмы звучали как музыка – особенно натуральный логарифм, плавный, будто резонанс струн в невидимом инструменте Вселенной. Формулы, уравнения, преобразования – всё это складывалось в сложную и в то же время прекрасную симфонию.
Я сдал первый курс на отлично, и это меня окрылило. Меня заметили. После второго курса пришло предложение: практика в радиоастрономической обсерватории, помощь с вычислениями. Я согласился, не раздумывая.
Обсерватория находилась за городом, на приподнятом плато, вдали от засветки – массивные антенны, как гигантские уши, прислушивались к шёпоту Вселенной. Здесь принимали сигналы со всего космоса – от пульсаров, квазаров, туманностей. Эти антенны вращались, сканируя небо, ловя волны, несущиеся миллионы лет, пока не достигнут Земли.
Руководителем моей практики был доктор Симпсон – не тот, что в мультфильме. Спокойный, интеллигентный мужчина лет пятидесяти, с проницательными глазами и всегда в свитере с высоким воротом. Он говорил мягко, с лёгкой немецкой интонацией, и как-то умел вселять уверенность в своих студентах, не повышая голоса.
Мы с ним решали задачи: корреляции сигналов, шумоподавление, синхронизацию временных шкал. Искали закономерности, разбирались с алгоритмами обработки данных. Астрономия постепенно завораживала меня. Я уже подумывал, а не остаться ли здесь – в мире звёзд, сигналов и безмолвных загадок.
Но потом случилось это.
Ночью, около двух часов, в обсерватории находились семь человек. Одна из антенн заклинила – что-то с гидравликой. Мотор фыркал, но антенна не двигалась. Все чертыхались, и, дожидаясь техников из города, мы спустились в столовую – маленькую, но уютную, с кофейным автоматом и запасом круассанов.
Симпсон беседовал с коллегами о квазарах:
– Мы снова поймали повторяющийся пик на 1420 мегагерцах, – говорил он, размешивая кофе. – Похоже на фоновое излучение, но с нестабильной модуляцией. Возможно, это очередной случай гравитационного линзирования. Или… что-то иное.
– Волны сдвинуты, как будто источник ускоряется, – подхватил его коллега.
Я молчал. Пил кофе и смотрел на экраны, где графики движения звёзд пульсировали, как сердцебиения. Рядом, на столе, заметил лист бумаги. Почерк был неровный, от руки: «WOW» – и набор цифр, в столбик, рядом частота: 1420.4556 MHz.
Меня будто током ударило. Взгляд выцепил в цифрах что-то… странное. Как будто ритм. Повтор. Какая-то закономерность. Я не понимал, что именно, но нутром чувствовал – это не просто сигнал.
Я подошёл к Симпсону, держа листок:
– Герр Симпсон, что это?
Он взглянул – и вдруг улыбнулся:
– Ах, старая добрая «WOW». Неразрешимая загадка.
– То есть?
– Это сигнал, который был пойман в 1977 году. Только один раз. Мы его так и не расшифровали, – он кивнул. – Назвали его по пометке оператора – «WOW». Он так и написал на полях, восклицательно.
– Это сигнал от инопланетян? – спросил я, стараясь не прозвучать наивно.
Ответила ассистентка Симпсона – Алиса Ханкаль, высокая девушка с тёмными глазами и короткими рыжими волосами, вечно в джинсах и толстовке, но при этом с какой-то эльфийской грацией. Её голос был как звон бокала.
– Сигнал WOW – это радиоимпульс, зафиксированный телескопом «Большое ухо» в Огайо. Он длился 72 секунды и пришёл на водородной частоте – 1420 мегагерц. Это частота, которую обычно не используют спутники или земные источники. Никто больше ничего подобного не ловил.
Она сделала паузу.
– Это один из лучших кандидатов на иноплантное происхождение сигнала. Но мы не смогли его повторить. Он исчез так же внезапно, как появился.
И вот, сидя в темной ночи обсерватории, под звуки разговоров о космических частотах, я понимал, что моя судьба только начинается. Загадка WOW стала для меня символом поиска истины – той самой музыки чисел и сигналов, что звучит за гранью обычного понимания, маня своим бесконечным ритмом и тайной, сокрытой в глубинах вселенной.
Я снова посмотрел на лист. А цифры уже не просто казались мне загадкой – они начали говорить со мной. и об этом сигнале).
Я отошёл в сторону и стал раздумывать, рассматривая данные. Передо мной был стандартный лист распечатки – длинный набор цифр и символов, представлявший интенсивность радиосигнала по частоте. Сначала он казался случайным, как любой фоновый шум, но стоило всмотреться, как возникло ощущение странной упорядоченности.
Сигнал WOW выглядел так: 6EQUJ5 – буквенно-цифровой код, где каждая буква и цифра обозначала амплитуду сигнала в конкретный момент. Буквы соответствовали шкале от 0 до 35 – чем ближе к Z, тем сильнее сигнал. В пике – «U», что означало аномально высокую мощность. Но не в этом было дело.
В самом распределении было что-то… ритмичное, как пульс. Повтор. Структура. Не просто всплеск – он рос, достигал вершины, потом убывал. Почти симметрично. Слишком точно для природного источника. Я чувствовал это всей логикой, к которой меня приучила математика.
– Откуда пришёл сигнал? – спросил я, обернувшись к Алисе.
– Из созвездия Стрельца, – ответила она, легко, будто давно привыкла к этому вопросу.
– Сигнал, мне кажется, шёл от движущегося объекта, – сказал я, осторожно. – Он… не был стационарным.