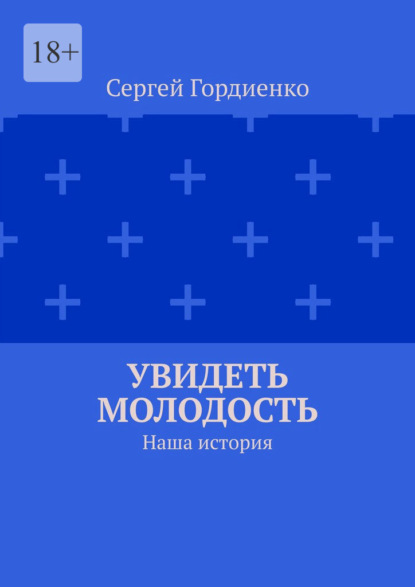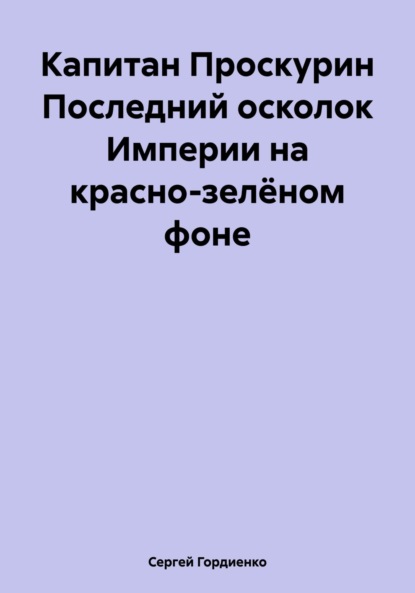Скелетон

- -
- 100%
- +
К счастью, учёные и чиновники быстро поняли, что создали. Большую часть гибридов уничтожили прямо в лабораториях – шприцами с кислотой, огнемётами, дробовиками. Но даже там кровь текла рекой: несколько существ вырвались, разорвали охрану, располосовали стеклянные перегородки когтями, оставив за собой лишь дым и мясо. Несколько взрослых особей успели сбежать – по слухам, при помощи подпольной религиозной секты «Матерь Возрождения», считавшей гибридов новым воплощением Евы. Беглецы укрылись в труднодоступных местах: в горных пещерах, болотах, непроходимых джунглях. Они начали размножаться – неведомым образом, без пар, без беременности. Появлялись новые поколения – всё более совершенные, всё менее человекоподобные. Они нападали на людей, разрушали фермы, вырезали стада и оставляли только кости. Леса опустели, целые регионы вымерли. Только военная кампания трёхлетней давности – с дронами, напалмом и спутниковыми ударами – остановила их распространение. Мир снова вздохнул, но недолго: слухи ходили, что в южных пустынях, в старых шахтах всё ещё обитают кланы гибридов – умных, затаившихся, ждущих своего часа.
И тогда проблема вновь встала ребром: чем заменить женщину?
И кто-то вспомнил старый американский фильм «Джуниор», где Арнольд Шварценеггер носил ребёнка в животе – абсурдная, добродушная комедия девяностых. Но в мире, пережившем XX2045G, сама идея перестала казаться нелепой. Учёные решили попробовать этот путь – не через животных, не через машины, а через самих мужчин.

Имплантация матки стала новым чудом и новой бездной одновременно. Из тканей самого пациента формировали орган – «аутоматку», выращенную из клеток брюшины и сосудистого эндотелия, чтобы избежать отторжения. Мужчинам вводили гормональные смеси: эстрогены, прогестерон, ингибиторы тестостерона. Психику готовили гипнозом, электростимуляцией и психотропными препаратами – чтобы сознание не отвергало новую роль. В капсулах воспроизводили химический фон беременности: запахи, биоритмы, музыку сердцебиения. Некоторые мужчины действительно начинали чувствовать шевеления в себе, говорить с будущим ребёнком, плакать без причины. Их организм превращался в сосуд, и тело переставало принадлежать им самим.
Человечество наконец научилось вынашивать жизнь – но ценой собственного безумия.
Первые эксперименты проводились, как водится, втайне – в подземных лабораториях под охраной военных. Добровольцев не было, поэтому использовали тех, кому нечего терять: заключённых, приговорённых к высшей мере. Им обещали жизнь – и даже «определённую свободу», если согласятся участвовать в программе «Новый рассвет». По сути, это была их последняя возможность искупить грехи: не пулей в затылок, а рождением новой жизни. Операции проводились ночью. Заключённым вводили наркоз, вскрывали брюшную полость, вживляли в неё искусственно выращенную матку, подсоединённую к венозной и лимфатической системам, чтобы обеспечить кровоснабжение и питание. Потом шли недели восстановления: гормональные уколы, болевые кризы, ломота во всех костях, головокружения. Тела бандитов опухали, менялись – грудь набухала, кожа становилась мягче, под кожей появлялись тонкие голубые прожилки. Некоторые плакали ночами, не понимая, что с ними происходит.
Из пятнадцати подопытных выжили трое. Все трое сумели выносить плод до конца. Родились двое девочек и один мальчик – первые настоящие дети нового человечества. Это было чудо, в которое не верили даже те, кто оперировал. Но остальные двенадцать не выдержали. Двое сошли с ума, когда увидели свои животы, как чужие тела, в которых что-то живое шевелится, толкается, требует пищи. Один из них попытался сам себя вспороть, чтобы «выпустить тварь». Другие умерли от шока, от разрыва сосудов, от инфекции. Трое пережили выкидыш: в камерах нашли кровавые следы, крики и стоны стояли всю ночь. Те, кто был хладнокровным убийцей, кто спокойно перерезал глотки и клал людей пачками, дрожали при каждом приступе токсикоза, рвоте, опухших ногах, бессонных ночах и непреодолимой тяге к солёным огурцам и селёдке. Оказалось, что выносить ребёнка – подвиг, на который способны не все мужчины.
Ученые сделали вывод: нужны атлеты – физически крепкие, тренированные, с устойчивой психикой. Спортсмены, военные, космонавты. Об этом объявили по всему миру. И знаете, произошло невероятное: добровольцев оказалось море. Мужчины шли толпами. Очереди выстраивались у клиник, как когда-то у храмов. Они приходили с блестящими глазами и твердым намерением – возродить человечество. Никто не требовал денег. Это стало делом чести, актом искупления за века разрушений, за войны, за самоуверенность. Люди верили: рождая дочь, они возвращают в мир свет, красоту, нежность.
Учёные уже умели определять комбинации генов и планировать пол ребёнка. В первый год почти все эмбрионы программировались как женские – чтобы снова наполнить землю голосами, смехом, дыханием женщин. На экранах лабораторий мелькали слова: Проект Ева, серия А, Ева 17, Ева 42. И каждый раз, когда рождалась новая девочка, по всей планете запускали салюты. Мужчины плакали, глядя на новорождённых – маленьких, розовых, кричащих, с волосами, пахнущими молоком и новой жизнью.
– Поздравляю с 8 Марта, друг! – вдруг хлопнул меня по спине кто-то, вернув из воспоминаний в настоящее.
Я обернулся – Сергей.
Мы когда-то учились вместе на курсах вождения, он тогда был тихим, добродушным парнем, широкоплечим, немного сутулым, с вечно сбившейся челкой и глазами, в которых жила простая человеческая доброта. А теперь передо мной стоял он – с мягкими чертами лица, постройневший, осунувшийся, но сияющий счастьем. Его руки дрожали, но не от усталости, а от гордости. Он только позавчера родил девочку – три с половиной килограмма, пятьдесят два сантиметра. Блондинка, кожа почти прозрачная, голубые глаза, как утреннее небо, и голос такой, что стены родильного блока дрожали. Я слышал её крики даже в своей палате – пронзительные, отчаянные, живые. Маленький комочек, но сколько в нём силы и смысла.
Возле кровати Сергея теперь стояли цветы, пелёнки, крошечные комбинезоны с розовыми зайцами, бутылочка с молоком и детская кроватка. Сергей сиял – он чувствовал себя мамой, и это слово не вызывало больше ни смеха, ни неловкости.
– А-а, спасибо, – сказал я, улыбнувшись. – И тебя с нашим праздником! Счастья тебе и малютке. Пусть у неё будет достойный мужчина.
– Да-да! – оживился он, глаза загорелись. – Моя Алёна будет астрономом! Вчера она, лежа в коляске, смотрела на звёзды – честно, не мигая!
Не смейтесь. Теперь 8 Марта стало мужским праздником тоже. Мы, беременные, имели на это право. Мы переживали боли, роды, страх, всё то, что веками было уделом женщин. Мы несли их судьбу, наперекор природе, вопреки всему. И это считалось честью. Быть суррогатной псевдоматерью – стало священным званием, почти орденом. Мы чувствовали себя хранителями нового мира. И пусть это звучало странно, даже кощунственно – но именно мы, мужчины, впервые по-настоящему поняли, что значит быть женщиной.
– Как себя чувствуешь? – спросил он меня, глядя с мягкой тревогой.
– По-разному, – ответил я тихо, – но в любом случае я рад.
Сергей хотел что-то добавить, но в этот момент дверь открылась, и в палату вошёл врач-акушер – невысокий, плотный мужчина лет пятидесяти с седыми висками и взглядом, в котором усталость давно ужилась с добротой. На лице – тонкие следы бессонных ночей, под глазами – синие круги, но руки уверенные, сухие, в прозрачных перчатках. На его халате поблёскивал значок с надписью: «Программа Возрождения. Центр №4».
– Хамид, – строго сказал он, покачав головой, – на кровать. Нужно сделать УЗИ.
Я медленно лег, придерживая живот обеими руками. Врач подкатил к кровати аппарат – старенький, с замотанными проводами, на колёсиках, с экраном, который шипел и рябил, будто сам устал от жизни. Он нанес на мой живот прохладный гель, провёл датчиком, и по экрану побежали серебристые волны, превращаясь в контуры чего-то живого.
– Вот она… – прошептал он, щурясь, приближая изображение. На мониторе проступила крошечная фигурка – моя дочь. Головка, крохотные ручки, крутящиеся ножки, пульсирующее сердце. Она двигалась, словно танцевала в светлой глубине, – мой маленький, человеческий комочек света.
– Всё хорошо, – произнёс врач с лёгким, почти детским воодушевлением. – Плод развит, девочка, активная. Уже тянется руками к стенке, словно хочет выйти.
– Да, я это чувствую, – улыбнулся я, осторожно поглаживая живот. – Ножками и ручками бьёт меня, особенно по ночам, когда я сплю.
Врач кивнул, убрал датчик и вытер гель.
– Ну что ж… – сказал он, – можно завтра на кесарево.
– О-о-о, поздравляю! – крикнул Сергей, но врач, покосившись, мягко вытолкал его за дверь, пробормотав, что роженицу нельзя волновать.
Я остался один. Тишина окутала палату. Снаружи где-то гудел лифт, шуршали колёса каталок, сквозь мутное окно пробивался серый свет мартовского утра. Я положил ладонь на живот и почувствовал лёгкий толчок изнутри – она отвечала мне.
Я вдруг понял: я не боюсь. Ни боли, ни операции, ни того, что скажут другие. Я – часть чего-то большего. В этот миг весь мир сузился до одного звука – равномерного, нежного биения двух сердец в одном теле.
Я подумал, что родить ребёнка – это действительно сложнее, чем полёт на Луну, чем любая миссия, которую может придумать человек. Полёт заканчивается возвращением, а это – началом новой жизни.
И когда я закрыл глаза, мне показалось, что где-то за окном, над серыми крышами больницы, поднимается солнце – тёплое, золотое, как улыбка той, кто ещё не родилась, но уже изменила мир.
(27 августа 2015 года, Элгг)
СКЕЛЕТОН
(Хоррор)
Медленно переступая через перевёрнутые автобусы и обвисшие высоковольтные провода, десятиметровый человекоподобный скелетон двигался в одном лишь ему известном направлении, не обращая никакого внимания на визжащих, разбегающихся людей, мельтешащих у его ног, как испуганные насекомые. Асфальт дрожал под каждым шагом, стеклянные фасады домов трещали, а металлические вывески дребезжали от его тяжёлых шагов. В воздухе пахло озоном, горелой резиной и страхом. Люди забивались в подъезды, под обломки машин, в пустые автобусы, словно в стальные гробницы, надеясь, что чудовище пройдёт мимо.
Огромные глаза на мертвенном черепе светились ядовито-зелёным пламенем, как будто внутри черепной коробки тлел уголь потустороннего костра. Длинные костлявые руки, почти пятиметровые, болтались, как пустые лианы, но именно они, казалось, помогали ему удерживать равновесие в земной гравитации. Каждое движение скелетона было неловким, будто он учился ходить заново. Его суставы поскрипывали, кости потрескивали, а на изгибах, в местах соединения, мерцал серо-зелёный биолюминесцентный свет – словно энергия, поддерживающая жизнь в существе, которому этот мир был враждебен. Судя по всему, земная атмосфера его тяготила: он будто задыхался в густом воздухе, привыкнув к иному – холодному, плотному, насыщенному метаном. Но выбора у него не было: нужно было жить здесь, приспосабливаться, дышать чужим воздухом, воспринимать чужую планету как собственную. Или погибнуть.
Был вечер. Небо низко нависло над городом, затянутое тяжёлыми, серыми, как свинец, тучами. Луна едва пробивалась сквозь мутный покров, иногда освещая всё происходящее болезненно-жёлтым светом, похожим на свет старой ртутной лампы. Ветер тянулся с окраин, нес запах пыли, бензина и озлобленного дождя. Уличные фонари мерцали, подрагивали, отбрасывая дрожащие тени на фасады домов – тени, которые, казалось, жили собственной жизнью. Мир выглядел так, будто кто-то нажал на кнопку «конец света», но забыл выключить электричество.

Я стоял, прислонившись к покосившемуся столбу, жевал мятную жвачку и с безучастным презрением наблюдал за всем этим кошмаром. Меня уже мало что удивляло. Паника, вопли, бегущие в никуда толпы – всё стало привычным, как прогноз погоды. Внутри не было страха, только тупое раздражение, усталость и лёгкая злоба на человечество, которое довело всё до такого состояния. Лет десять назад мир ещё казался осмысленным. Люди смеялись, строили, влюблялись, спорили. А теперь – только выживали, прячась от теней, что бродили между домами.
Скелетон лишь внешне напоминал человека, хотя, точнее сказать, это был скелет, грубо обтянутый чем-то вроде кожи – полупрозрачной, серовато-бурой, с внутренним светом, будто в глубине каждой кости плавала жидкая энергия. Генетически же он был абсолютно чужд – ни единой общей нити с земной биологией. Его тело развивалось по иным законам, в среде, где не было растений, где воздух был ядовит, а жизнь строилась на морских протеинах и химических мутациях. Учёные, исследовавшие найденные останки первых скелетонов, говорили, что их кости – не кальций, а какой-то белковый минерал, плотный, гибкий и живой, способный регенерировать. Внутри не было крови – лишь вязкая светящаяся жидкость, похожая на смесь нефти и фосфора.
Как насмешка над человечеством, природа – или кто бы ни создал этих тварей – придала им облик приматов. И потому, когда они впервые появились, люди в панике искали виноватых среди самих себя. Говорили о генетических экспериментах, о секретных лабораториях, где якобы смешивали человеческие гены с неизвестными образцами ДНК, найденными в метеоритах. Священники кричали с амвонов, что это исчадия Ада, посланные испытать веру. Газеты писали про возмездие за гордыню.
Но всё оказалось куда проще и страшнее: скелетоны пришли не из лабораторий – они вышли из гиперпространственного портала, разверзшегося над Южным океаном в ночь на двадцать третье сентября. Никто не знал, кто его открыл. Не было сигнала, не было предвестий – просто пространство вспухло, как пузырь, и из него выползли первые чужие, похожие на тени, пропитанные светом.
А потом началось нашествие…
– Чтоб ты сдох! – выругалась старушка, прижимая к груди выцветшую сетчатую авоську, из которой выглядывали три мандарина и засохшая буханка серого хлеба. Она была из тех старушек, что пережили всё – войну, голод, приватизацию и восемь реформаций пенсий, но не ожидали дожить до конца света. Морщинистое лицо её было обожжено ветрами, глаза – колючие, но живые, в них горел тот самый упрямый огонь, которым старые люди иногда пугают молодых. Платок, некогда цветастый, потемнел от дождей и пыли, пальто висело мешком, но она стояла прямо, словно сама Земля не осмелилась согнуть её.
Был вечер – тот самый, когда улицы дышат холодом и копотью. Скелетон, не обратив ни малейшего внимания на крик, переступил через женщину, как через камешек на дороге, и пошёл дальше. Его зелёные глаза пульсировали мягким светом, будто в глубине черепа что-то дышало. Пока горят эти глаза – он безопасен. То есть, не голоден. Но стоило им потухнуть – начиналась охота.
Тогда скелетоны менялись. Их неуклюжие, медленные движения вдруг становились стремительными, суставы сгибались с хрустом, но уже без тяжести, как у огромных хищных насекомых. Они бежали – на четырёх, на двух, как угодно – и хватали ближайших людей длинными костлявыми руками. В тот момент все их слабости исчезали. Схваченного человека скелетон подносил к раскрытой пасти, и начиналось ужасное – жертва словно растворялась. Не куски мяса, не кровь – а само тело, вся плоть медленно втягивалась, будто высасываемая невидимым насосом. Оставались только чистые белые кости, падающие на землю с сухим звоном. За один присест скелетон мог сожрать сорок человек, а иногда и больше – зависело от голода.
Когда-то люди пытались сопротивляться. Их жгли огнемётами, расстреливали из танковых орудий, запускали ракеты с боеголовками – бесполезно. После каждой атаки от скелетонов оставались тлеющие останки, которые через сутки начинали дымиться и расползаться, распространяя по воздуху и воде смертоносные споры. Они заражали всё – почву, животных, людей. В заражённых районах люди начинали гнить заживо, превращаясь в ходячие трупы, потерявшие рассудок и движимые одной жаждой – жрать. Эти зомби, ползущие по дорогам, становились новой напастью, и армии просто не успевали их сжигать. Поэтому человечество сделало вывод – скелетонов лучше не трогать. Пусть съедят нескольких, зато не погибнут миллионы. Так и жили – в страхе и договорённости с чудовищами.
– Лучше бы не сдох, – буркнул водитель рейсового автобуса, стоявшего рядом. Автобус был старый, перекрашенный десятки раз, с выбитыми стёклами, заклеенными полиэтиленом и скрипучими дверями, которые открывались только с третьего удара по панели. Фары светили тускло, в салоне пахло дизелем, плесенью и потом. На крыше был привязан металлический бак – в нём возили воду для охлаждения двигателя, который перегревался на каждом втором километре.
Сам водитель был широкоплечий, небритый, в засаленной куртке с оторванным рукавом и татуировкой в виде якоря. Его лицо выражало смесь скуки и обречённости – всё уже было, ничего не удивляет. В одной руке он держал бутерброд, из которого вываливался тонкий ломтик серого мяса – крысиного, судя по кислому запаху. Но водителя это не смущало: за годы катастроф желудки людей стали железными, приспособившись переваривать всё, что не светится или не двигается.
– Куда смотрели власти? Почему пропустили этих чертей в наш мир?! – негодовала старушка, не отпуская авоську. Ей просто нужно было говорить – сейчас, хоть кому-то. Телевизоры давно не работали, соседи вымерли, а на улицах остались только такие же молчаливые, как водитель. Её голос дрожал не от страха, а от боли – той древней, человеческой боли, когда хочется, чтобы хоть кто-то объяснил, зачем всё это.
– Тут власти бессильны, – ответил водитель, криво усмехнувшись. – Эти монстры свалились нам на головы чёрт знает откуда! Может, и правда из Ада. Я читал в Библии – придёт Антихрист, и начнётся Апокалипсис. Может, вот он и пришёл.
Он посмотрел в сторону уходящего скелетона. Тот растворялся в темноте, лишь глаза его ещё мигали издалека, как зелёные маяки в густом тумане.
– Точно, из Ада, – согласился мужчина, проходивший мимо. На нём была зелёная кепка с оборванным козырьком и оранжевые ботинки, явно разного размера. Сочетание нелепое, почти клоунское, но в этом мире никто уже не обращал внимания на моду – одежда была просто инструментом выживания. Люди носили всё, что могли найти на развалинах старых магазинов, в заброшенных квартирах или на телах погибших. Его пальто висело криво, заплатки держались на пластиковых стяжках, а воротник пропах бензином и страхом. Мужчина остановился, сунул руки в карманы и с брезгливым интересом посмотрел на скелетона, который, внезапно застыв, медленно повернул голову, будто пытался вспомнить, зачем пришёл.
Мы невольно напряглись, но глаза чудовища продолжали светиться зелёным – значит, всё в порядке. Мы знали их повадки: когда они стояли неподвижно, будто окаменев, это означало, что они «спят» или, скорее, находятся в некой внутренней паузе. В этот момент они не опасны. Они могли стоять сутками – под дождём, под снегом, среди руин. Только эти светящиеся глаза, не мигающие, бездонные, напоминали, что смерть ещё рядом, просто временно задремала.
– Надо бороться с ними! Воевать! – вдруг разъярилась старушка, потрясая своей авоськой. Мандарины вывалились и, подпрыгивая, покатились по тротуару, оставляя за собой следы грязи. Она подалась вперёд, словно хотела сама броситься на чудовище с проклятиями и верой. В её голосе звучала старая энергия – та, что когда-то заставляла людей защищать города, строить баррикады, верить в героизм. Ей хотелось войны, потому что в хаосе войны есть хоть какой-то смысл. Мир, где приходится просто ждать, когда тебя съедят, казался ей постыдным.
– Воевали… а толку-то? – зевнул водитель. Он лениво доел бутерброд, сморщился, вытащил изо рта крысинный хвост, застрявший между зубами, и с презрением бросил его в переполненный мусорный бак, из которого сочился жир и тлели бумажки. Скука в его глазах была сильнее страха. Человек, переживший столько ужасов, уже не ждал ничего – ни спасения, ни конца. Только очередного рейса и пары часов сна на сиденье автобуса.
Город вокруг нас выглядел, как выжженная декорация старого фильма. Многоэтажки стояли с пустыми, чернеющими глазницами окон, словно сами превратились в скелеты. На балконах болтались обрывки белья, рваные занавески, детские игрушки, покрытые пылью. Улицы были залиты грязной водой после недавнего дождя, асфальт местами вспучился, провалился. Из-под крыш капала ржавая жидкость, ветер гонял по тротуарам клочья газет с выцветшими заголовками: «Портал закрыть не удалось», «Власти ищут способ переговоров».
Редкие прохожие двигались торопливо, пригибаясь, словно стараясь стать незаметнее. Никто не разговаривал. Каждый нёс в себе свой страх, свою вину, свои остатки надежды. Только редкие собаки рыскали между домами – исхудавшие, облезлые, почти прозрачные.
Я насмешливо смотрел на них всех – на старушку, водителя, мужчину в зелёной кепке. И продолжал стоять, не двигаясь. Место было выбрано не мной. Я ждал девушку, которую пригласил на свидание. Да, именно свидание – глупое, человеческое, почти нежное слово в мире, где нежность давно стала роскошью. Она настояла, чтобы мы встретились здесь, у самой окраины, на старой автобусной остановке. Сказала: «Тут безопаснее». Я не спорил. Даже в аду люди продолжают любить – просто тише, осторожнее, словно боятся спугнуть само чувство.
О скелетонах мы знали многое – и в то же время почти ничего. Даже после всех лет наблюдений никто не мог понять, как они размножаются. У них не было половых органов, не было различий между самцами и самками. Некоторые учёные предполагали, что они делятся – буквально распадаются надвое, как амёбы, и из каждой половины вырастает новое существо. Говорили, будто видели, как у одного из них в районе грудной клетки вдруг образовалась трещина, и оттуда вышло второе, меньшее, как отражение в искажённом зеркале.
Другие считали, что это не деление, а почкование: будто на теле скелетона появляется нарост – блестящий, полупрозрачный, похожий на кость в зародыше. Этот нарост рос, шевелился, а потом отделялся, падал на землю и начинал ползти, как новорождённый зверёныш, пока не вставал на две ноги. Кто-то утверждал, что слышал их «песню» в такие моменты – низкий, вибрирующий гул, похожий на стон планеты.
А я просто стоял и думал: зачем я всё ещё жду? Может, она не придёт. Может, её уже съели где-то по дороге. И всё же – я ждал.
Из подъезда выскочил какой-то парень – худощавый, с взъерошенными волосами и воспалёнными глазами, в серой спортивной кофте с порванным рукавом и красных, заляпанных грязью кроссовках. На шее болталась верёвка, из которой он, видимо, недавно вытащил петлю. Вид у него был безумный, как у человека, давно решившего, что жизнь – не обязательное условие существования. На груди – нашивка с облезшей надписью «Омега-братство», а в руках – связка динамитных шашек, перевязанных изолентой. Горел бикфордов шнур, искры сыпались на асфальт.
Все бы ничего – мало ли кто с ума сходит в эти времена, – но он с какой-то решимостью камикадзе бросился прямо под скелетона, прилип к его ноге и, трясясь от возбуждения, прикрепил связку липучкой. Потом, отбежав на несколько метров, заорал:
– Партизаны начинают антифаду! Долой пришельцев! Свободу человечеству!
Голос его разнёсся по пустынной улице, звонкий, отчаянный, срывающийся на визг. Скелетон стоял неподвижно, словно не сразу понял, что случилось. Потом медленно наклонил голову и посмотрел вниз, где на его костлявой ноге коптился маленький огонёк. Фаланги пальцев лениво пошевелились – не из страха, а скорее из отвращения. Он будто хотел стряхнуть грязь, не желая, чтобы на его теле оставалась хоть капля земной материи.
Наши вирусы, бактерии, даже споры грибов не могли прижиться на них. Их тела были чужды биохимии Земли. Кости состояли из полуметаллического белка, не содержавшего углерода – а значит, не участвовали в органических реакциях. Внутри вместо крови циркулировала вязкая фосфоресцирующая жидкость, удерживающая постоянную температуру и обеспечивающая питание тканей напрямую. Ни один земной микроорганизм не мог «понять» такую структуру, и потому скелетоны были стерильны, как хирургические инструменты. Даже мухи обходили их стороной.
Старушка, водитель и несколько прохожих одновременно обернулись на крик. У водителя челюсть отвисла, бутерброд выпал из руки, глаза полезли на лоб, словно он увидел воскресшего черта. Я ощутил, как у меня замерло сердце – не от страха за парня, а от осознания, что сейчас произойдёт нечто ужасное. Прохожие застыли, один из них сипло выдавил:
– Идиот… Что ты делаешь?
Но было поздно.
Лишь старушка оживилась, как будто в ней проснулся давно забытый военный дух. Она вытянула руку с авоськой и закричала: