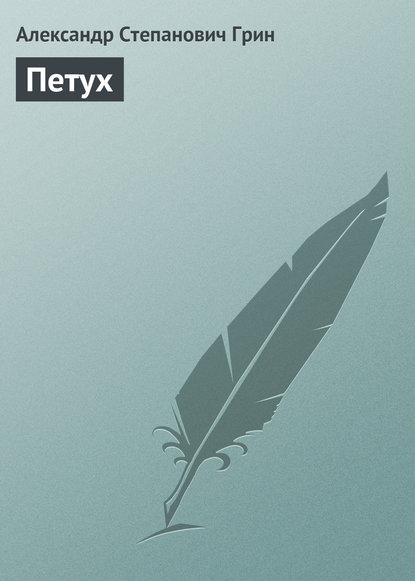«Цена призвания»

Что выше — буква Закона или его дух? Служение институту или служение жизни?
«Цена призвания» — это не просто история о запретной любви священника. Это глубокое философское исследование природы долга, веры и искупления. Героям предстоит понять, что настоящее призвание начинается не в стенах церкви, а в готовности принять ответственность за ту жизнь и ту любовь, что были им доверены.
Их путь — это дорога от отчаяния к надежде, от вины к благодати, от страстной борьбы к тихому, вечному счастью. Роман для тех, кто ищет не только сильную историю, но и ответы на главные вопросы о смысле служения, силе прощения и цене подлинного счастья.