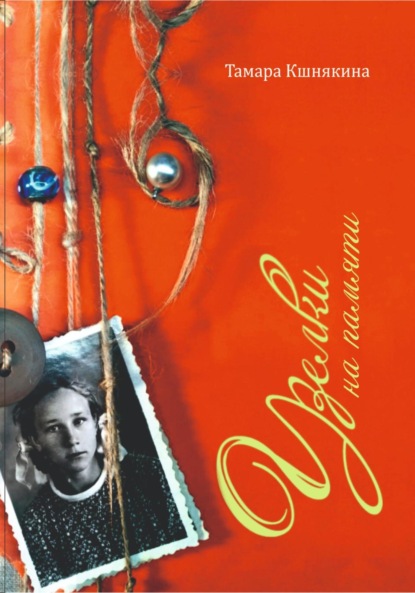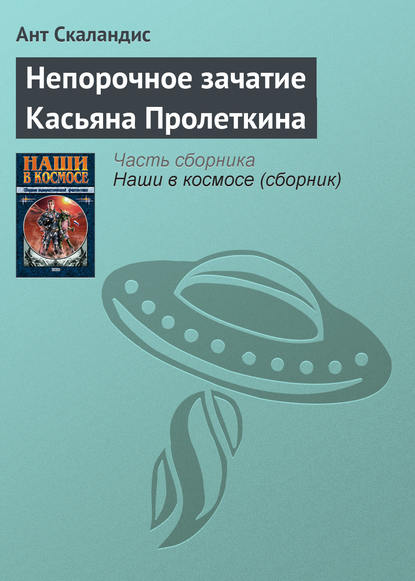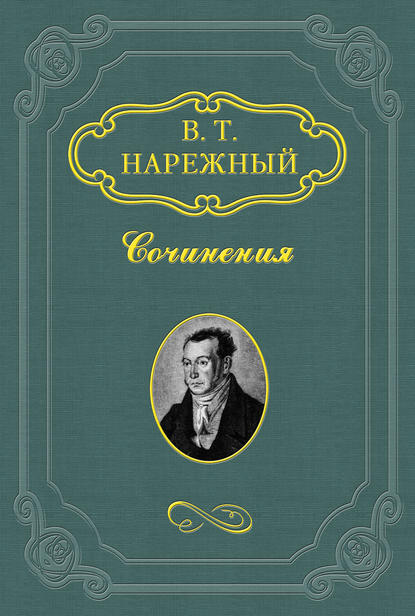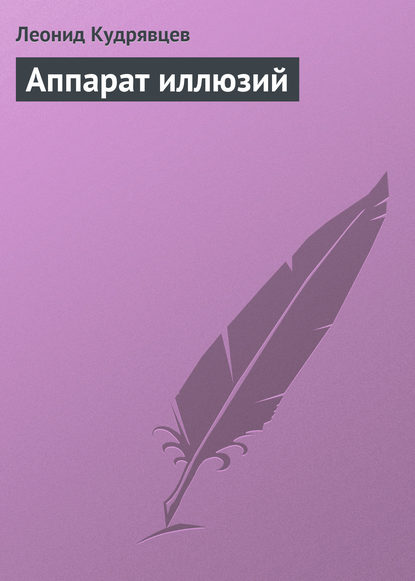- -
- 100%
- +
Избы в посёлке были просторными, но с маленькими оконцами. В избе мужики ходили обутыми в сапоги, пол был грязный, одежду тоже не стирали, считали, что от стирки одежда быстрее изнашивается. Весь посёлок обсуждал, как русская сноха деда Мирона Феша развела костёр в ограде, поставила большой котёл и варила в нём шторы, занавески и одежду. Зато посуда в доме свекрови всегда была выскоблена, вымыта и расставлена по полкам. Свекровь строго следила, чтобы в кухне был порядок и посуда блестела. Свекрови понравилась новая сноха, и они между собой поладили.
На весь посёлок был один колодец, и все жители брали из него воду. Однажды мама пришла к колодцу, и подошла к ней бывшая жена Степана – Матрёна. Стала она ругаться и оскорблять маму. Матрёна была невысокого роста и щуплая, а мама – рослая и физически развитая. Она не стерпела оскорблений и «отходила» соперницу коромыслом. Жители посёлка поняли, что сноха у Кшнякиных не из тех, кого можно запросто обидеть. Матрёна подала иск в суд на алименты. Суд поделил детей: двое старших – Павлина и Владимир – определены были проживать с отцом, близнецы – Мария и Наталья – с матерью. Павлине было десять лет, Володе – восемь, близняшкам – по четыре года. Володю забрали родители Матрёны, а Павлина стала жить в семье отца. Так мама стала мачехой Павлины. Девочка была своенравная и непослушная, мама с ней намучилась, пока она в сороковом году не уехала в Бийск, потом в Барнаул. Володя тоже был озорным мальчишкой, не очень слушался дедушку с бабушкой. Однажды этот мальчик забрался на крышу сарая, упал и разбился насмерть.
С Ципсынсих бараков наша семья переселилась на лесную заимку, так как Степан Миронович устроился работать лесником. Кордон находился в лесу, в тихом красивом месте около реки. Изба была выстроена просторная, как зала, без перегородок. Хватало места в этой избе и семье из четырёх человек, и мужикам, приезжающим на заготовку леса. Славно было в лесу и зимой, и летом. На лесных озёрах много дичи водилось, в реке – рыбы, в лесу – ягод и грибов. Работали они много, но свежий воздух, спокойная жизнь без собраний, деревенских сплетен, без конюховки (бытовка конюхов) с её табачным дымом и матерщиной, облагородили семью.
***
Зверевы – родственники по материнской линии. Родная сестра мамы – наша тётя Марфа – была замужем за Иваном Матвеевичем Зверевым. Иван был женат вторым браком. От первой жены у него было два сына: Василий и Константин. Марфа родила ему четырёх дочерей: Анастасию, Наталью, Анну и Любовь. Семья жила в доме, построенном на две половины. Во второй половине дома жил родной брат Ивана – Тимофей, он был тоже вдовцом, женатым во второй раз. От первого брака у Тимофея было два сына: Филипп и Федор. В 1927 году они были молодыми парнями. Младший Филипп влюбился в девушку Мотю, жившую по соседству, и она отвечала ему взаимностью. Девушка была пригожей, скромной и работящей. Их судьбы были похожи: она рано лишилась матери и жила с мачехой. Родители просватали Мотю за богатого односельчанина Федора Каширского. Узнав о помолвке Моти с Федором, Филипп загрустил. Братья и друзья советовали выкрасть невесту. Для побега нужны были деньги. Филипп решил поговорить с отцом. Тимофей, услышав о деньгах, запротестовал. Мало ли девок в селе, выбирай любую!
– А что же ты сам не женился на любой, а женился на той, что понравилась?
Отец был женат вторым браком и знал, что значит жить с нелюбимой женой. Филипп потребовал свою долю в наследстве.
– И какова твоя доля, по-твоему?
– А мне много не надо, лошадь, кошеву и тёлку Зорьку.
– Так она стельная, скоро коровой будет.
– Так я больше ничего не прошу.
Думал Тимофей, думал, ничего лучшего не придумал. Сказал молодой жене о решении сына. Жена в слёзы. Дело в том, что землю в сельской общине давали только на жителей мужского пола, и если сын отделялся, ему положен был надел. Зверевы лишались и одного работника.
– Просит он только лошадь с кошевой и тёлку Зорьку.
– Зачем?
– Как понял я, решил он умыкнуть Мотьку, просватана она за Федора. Венчание в воскресение.
– Так ведь лето, свадьбы летом не играют.
– Дура баба, – разозлился Тимофей, – тебя не спросили. Деньги Филиппу нужны.
Пришлось гнать тёлку в райцентр на базар и продавать. Слёзы наворачивались на глаза, но делать было нечего. Вечером Филипп сидел на бревне, притаившись в кустах. Кусты зашевелились, и из них вышла девушка. Роста среднего, не худая, но вся такая ладненькая, стройная. Огляделась и негромко позвала:
– Филя!
Филипп поднялся с бревна и тихо подошёл к девушке, чтобы не напугать. Они стояли друг против друга, на расстоянии вытянутой руки, однако ни он, ни она, не решались сделать ещё один шаг к сближению.
– Ну, что? – первым нарушил молчание Филипп.
– Просватали, – убитым голосом произнесла Мотя, комок стоял в горле, боялась разрыдаться. – Запой вчера был, напились все, особенно жених. Противен он мне. Если что, не буду я с ним жить. Или сбегу, или руки на себя наложу. Измаялась я, Филя.
Филипп взял Мотю за руку, и они сели на бревно.
– Не горюй, Мотя, всё образуется. Я у отца надел попросил: коня с кошевой и тёлку Зорьку. Обещал продать и деньги отдать. На первое время хватит, там заработаем. Если завтра отец из Усть-Пристани вернётся, медлить не будем.
– Дай-то Бог, дай Бог, – повторяла Мотя.
– Ты, главное, метрики возьми, и узелок собери, передай Дуньке Макеевой, она брату Мишке передаст, а он – мне.
Посидели, прижавшись друг к дружке. Ни объятий, ни поцелуев. Матрёна заторопилась – вдруг отец её хватится, или мачеха, и скрылась за кустами. Филипп же сидел, курил самокрутку, думал невесёлую думу о превратностях судьбы. Продумывал маршрут, где остановиться и переждать, пока всё не успокоится. Был у него друг, мордвин, жил в тайге, работал на смолокуренном заводе. Там их никто не найдёт и не выдаст. Главное сейчас, чтобы батя денег побольше за тёлку выручил и вовремя вернулся.
Венчалась Мотя с немилым женихом в местной церкви. (Её разрушили в 1931 году). И когда молодожёны и их родственники выходили из церкви, их поджидал Филипп. Он схватил молодую жену за руку, буквально вырвал у жениха, и они побежали к ждавшей их пролётке. Свидетели этой сцены, стоящие на паперти, оторопели от такой неожиданности. Филипп с Мотей заскочили в кошеву, хлестнули лошадь вожжами и понеслись прочь. Федор Каширский, молодожён, остался стоять на паперти. Когда родня опомнилась, снарядили погоню. Ездили по соседним деревням, искали, но беглецов так и не нашли. Советский Союз был большой, скрылись влюблённые надежно, больше в этом селе не появились. Уехали они в Среднюю Азию. Горе-жених был опозорен, жена сбежала сразу после венчания. И жениться он не мог, так как был венчан. Поэтому Федор и его родня затаили обиду на семью Зверевых. Они считали, что братья Константин и Василий помогали Филиппу. Каширские только и ждали случая, чтобы отомстить. И случай представился, когда началась коллективизация.
Летом 1939 года к Марфе Зверевой приехала её знакомая из райцентра Усть-Пристань. Муж этой знакомой работал в райисполкоме и предупредил жену о грозящей опасности семье Зверевых, и она сразу приехала в село Вяткино к Марфе. Подруги долго шептались на кухне, приехавшая женщина сообщила, что их семьёй интересуется НКВД, прибыл уполномоченный из Барнаула. Вот в чём оказалось дело. Поступило заявление от односельчанина, якобы Зверевы сами не идут в колхоз и других отговаривают. А тут ещё случился пожар на колхозной конюшне, и обвинили в этом Ивана. В колхозе членом правления был родственник Федора Каширского.
Марфа передала новости мужу Ивану, тот брату Тимофею. Вечером обе семьи собрались за столом у старшего брата. Думали, советовались, как быть, как избежать беды. Людей забирали, увозили в райцентр, и они бесследно исчезали. Было решено: парням уезжать, и как можно дальше. Семьи оставались без крепких рабочих рук, но другого выхода не нашли. Подруга Марфы передала адреса знакомых в Кемерово, чтобы братья –Василий и Константин поехали в Кузбасс. Там угольные шахты, строительство, народу пришлого много, и можно затеряться. Там их искать никто не будет.
Решали, как выбраться из села, на чём добраться до города. Вспомнили, что в Усть-Пристань с верховий Оби прибыл коше́ль (специальное плавучее заграждение из брёвен для лесосплава длинной до километра) с лесом. Можно договориться со сплавщиками, рабочие руки им нужны. Село Вяткино расположено на левом берегу реки Обь, ниже по течению Усть-Пристани. Мачехи собрали пасынков в дорогу, уложили в мешки вещи и провизию. Мужчины спустились на берег реки и стали ждать плот. К плоту приплыли на лодке в кромешной темноте. Со сплавщиками договорились быстро, перекинули мешки на плот и сами забрались. Через несколько дней они доплыли до Барнаула, высадились у Солдатовской пристани, вскинули на плечи мешки и отправились на железнодорожный вокзал. На поезде братья доехали до Кемерово. В селе их, конечно, хватились, но было уже поздно. Приехал уполномоченный НКВД и дознаватели из райцентра. Опрашивали колхозников, но ничего не выяснили. Арестовали несколько человек, в том числе Тимофея и Ивана Зверевых. Некоторых отпустили, а Ивана осудили и отправили в Казахстан в Семипалатинскую область на поселение. Там он работал шофёром и вскоре скончался, там и похоронен. Дядя Иван не был «кулаком-мироедом», а был простым крестьянином, отцом многодетной семьи, кормильцем. Тётя Марфа была беременная четвёртым ребёнком – никого не пощадили. Четвёртая дочь – Люба родилась уже без отца. Жили бедно, дети в школе не учились, читать и писать научились самостоятельно. Тётю Марфу не брали работать в колхоз как жену врага народа, жили своим хозяйством и разовыми подработками. Настя и Анна подросли и тоже стали батрачить на чужих людей. После смерти Сталина от Василия пришло письмо, он звал их в Кемерово. Тётя Марфа продала дом и уехала к пасынку. Там дочери работали на заводах, вышли замуж, обзавелись семьями. Никто не знал об их прошлом, об их отце, и не презирали. Там у семьи Зверевых началась новая жизнь.

Воспоминания о детстве
1943 год
Дата моего рождения – 1941 год, 3-го сентября. Как раз через два месяца после начала войны с Германией, которую потом назовут Великой Отечественной. Место рождения – село Чеканиха, Усть-Пристанский район, Алтайский край, Сибирь, Союз Советских Социалистических Республик (СССР).
Моя семья в 45-ом году уже живёт в маленькой избушке, состоящей из одной комнаты и сеней. В ней большую часть занимает русская печь, у другой стены – родительская кровать, напротив двери – окно, около него стол, табурет и две лавки – вот вся мебель и обстановка. У матери – Федоры Гордеевны – нас пятеро. Старшая – Роза, ей 12 лет. У неё круглое лицо, белые волосы и светлые глаза. Саня – маленький щуплый мальчик, но очень бойкий. Все зовут его Сашей, а я не выговариваю букву «ш» поэтому зову Саней. Люба – ей семь лет, она голосистая и весёлая. Я – четвёртый ребёнок в семье, худенькая, бледненькая, золотушная. Мне – четыре года. Пятый – Колька, он родился без отца, после того как тот ушёл на фронт в 1943 году. До этого у отца была «бронь», отсрочка от армии. Наш отец, Степан Миронович Кшнякин, был коммунистом и работал там, куда посылала партия. Перед войной он работал председателем промартели. Промышленная артель занималась заготовкой грибов, ягод, сбором живицы (сосновой смолы), распиловкой древесины на чурочки для паровозов. Вероятно, это было важно для фронта, поэтому у него была бронь, и он оставался в тылу. Возле дома лежали заготовленные брёвна на постройку нового дома, который построить не успели: началась война, и все мужчины из села ушли на фронт. Мы остались жить в этой ветхой избушке. Лес, заготовленный на сруб, был продан во время голодной зимы. Уходя на фронт, отец сказал маме:
– Лучше я пойду воевать туда, чем ждать, когда они придут сюда.
Из воспоминаний старшей сестры Розы:
«Когда началась война (а началась она для нас в 1943 году, в январе, когда отца взяли в армию), помню, как отец с матерью поехали на лошади в райцентр Усть-Пристань. А я бежала сзади пока были силы, потом упала в снег и плакала. Остались мы с матерью – четверо детей, и в октябре родился пятый. Отец погиб, так и не узнав, что вот уже месяц как у него родился ещё один сын – Николай».
Когда началась война, маме было 29 лет. А овдовела она в 32 года, имея на руках пятерых детей. В январе 1944 года по запросу мамы из военкомата пришло извещение, что наш отец, Кшнякин Степан Миронович, младший сержант, связист, пропал без вести в ноябре 1943 года. С фронта отец прислал аттестат, и мама получала его зарплату, после его смерти выплаты прекратились. Когда отец был дома, семья жила в достатке, было большое личное хозяйство, дети были одеты и обуты, ходили в школу. Теперь же для нашей многодетной семьи наступили тяжёлые времена.
Мне запомнилось одно обычное наше летнее утро. Мы с Колькой проснулись утром. А спали мы на русской печи. Мне четыре года, Колька младше меня на два года. Старшая сестра Роза помогла нам слезть с лежанки, и мы вышли из избы в огород. Было тепло, светило яркое солнце. В огороде всё было зелено. Нас заинтересовали цветы лука, такие большие шарики на высокой ножке. Мы сорвали их по нескольку штук. Из избы вышла Роза и закричала на нас. Мы с Колькой напугались и побежали к соседям – к тётке Ульяне Топорковой. У неё было четыре дочери нашего возраста и муж тоже на войне. Помню – сидим мы тогда у Топорковых на голбчике, лавочке возле печи, и тётка Ульяна, сводная сестра нашей мамы, угощает нас варёной морковкой. Прибегает наша горе-нянька Роза и уводит нас домой.
Помню, как меня в тот день поили рыбьим жиром. Старший брат Саня ловил удочкой в Оби рыбу, это было хорошее подспорье в нашем питании. Рыбу жарили или варили, а из внутренностей вытапливали жир. Алюминиевая тарелка с этими рыбьими остатками постоянно находилась в загнетке русской печи. Рыбий жир был с плохим запахом и на вкус противный. Дети постарше – морщились, но пили, я же отказывалась наотрез. С детьми в семье не церемонились. Роза садила меня на табуретку, заламывала руки за спину, одной рукой держала мои руки, а второй – сжимала мне щёки, мой рот раскрывался, и мама вливала мне ложку этой вонючей жидкости. Делалось это из благих намерений, от рахита, но я была мала, чтобы понять это и громко плакала. Такими были наши обычные дни, такими были нравы людей и премудрости простого крестьянского воспитания.
Письма от отца и его документы не сохранились, так как во время дождя и таяния снега крыша нашей избушки протекала, бумага размокла, от его паспорта остались одни коленкоровые корочки, их мама хранила, а теперь храню я. Самым несчастливым и тяжёлым годом был именно этот сорок пятый. Всё, что было нажито, было поменяно и проедено. Женщины собирались группой, выезжали в другие сёла и обменивали вещи на продукты. Уезжая из дома, мать оставляла на троих детей один килограмм муки.
Село Чеканиха стоит на правом берегу реки Оби, и, чтобы попасть в другие сёла и районный центр, нужно переправляться на лодке. Однажды в мае она уехала по деревням за картошкой. На Оби шла шуга, ледяные глыбы и крошево. На обратном пути их застала буря. Подул ветер, лодка была полная картошки. В лодке было четверо человек: мама и ещё три женщины. Лодку прибило волнами к безлюдному острову. Маме пришлось прыгать в холодную воду, разводить костёр, они провели на острове трое суток, мокрые и голодные, пока не стих ветер. Бог миловал, они вернулись на седьмые сутки домой живыми и здоровыми. Из домашнего скота у нас осталась только корова Манька, она-то и спасала нас от голода, давая молоко.
Если мама уезжала в другую деревню за продуктами, Роза оставалась за старшую. В те критические дни, когда наша старшая сестра Роза потеряла надежду, что мама вернётся из поездки, к нам приехала сестра отца – тётя Тася. Она возвращалась из трудовой армии. Ей давали год принудительных работ за опоздание на работу. Она возвращалась домой и решила навестить племянников. Был вечер, и, когда она зашла в избу, при свете лампы-коптилки не сразу рассмотрела детей. Она вначале даже обрадовалась, что дети такие пухленькие, но, присмотревшись, поняла, что они опухли от голода и поэтому такие спокойные и молчаливые. У тёти Таси был фанерный чемодан с вещами. Когда она раскрыла его, дети увидели, что среди её скудных вещей лежат несколько морковок. Она угостила Сашу и Раю, дав каждому по одной, с ними они быстро управились и снова смотрели на неё голодными глазами. Спать дети не легли до тех пор, пока не съели все принесённые няней Тасей морковки. А наутро приехала мама и привезла картошки. Радости не было границ: мама вернулась и снова с ними! Роза и тётя Тася пошли на берег реки с тележкой. «Как они плакали, на всю деревню слышно было, как голосили сноха и золовка», – вспоминала Роза.
Чеканихинский детский дом
В мае сорок пятого года закончилась война с Германией. Наша семья никогда не праздновала этот день. Мама говорила:
– Этот праздник для тех, у кого отцы вернулись к своим семьям, а наш погиб, и для нас нет праздника.
В этом году на огороде посадили овощи, но в Оби поднялась вода и затопила огороды. Семена были собраны с большим трудом, а урожая не предвиделось. Семья была обречена на голодную смерть. Отец наш, на начало войны, работал председателем промартели и помогал в те годы обустраивать детский дом, в который должны были прибыть эвакуированные дети из блокадного Ленинграда. Перед уходом на войну наш отец договорился с директором открывшегося в селе детского дома Киселёвым, что если его семье будет плохо, взять старших его детей в детский дом. Старшие дети – Роза и Саша – жить в детском доме отказались, да и с Коленькой надо было водиться, он был маленьким. Мама сдала в детский дом Любу, которой только-только исполнилось семь лет и меня, которой не было ещё четырёх. Этот эпизод в своей жизни я хорошо помню: мама несла меня на руках, прикрыв полой своего ватника, верхней одежды на мне не было, а Люба, в длиннополом пальто старшей сестры Розы шла, держась за мамину юбку. Так мы с Любой оказались в Чеканихинском детском доме, можно сказать, «по блату» среди местных детей сирот и детей, эвакуированных из блокадного Ленинграда. Детский дом располагался в двух зданиях. Корпуса находились на большом расстоянии друг от друга, как мне, маленькой девочке, казалось. В большом доме были основные службы: столовая, зал с фортепьяно и спальни старших детей. Любу поселили в этом корпусе. Меня же отвели в маленький домик, где жили дети моего возраста. Между большим и маленьким домами была просторная поляна. На ней росли берёзки, кустарники. Это была игровая площадка. Помню, что на этой поляне стояли качели, и мой брат Саня с друзьями качал меня и Любу на этих качелях. Я сидела верхом на доске, вцепившись в неё ручонками, а мальчишки, стоя на концах качелей, раскачивали их, и мы летали то вверх, то вниз. Сердце моё замирало, но я была горда тем, что у меня есть старший брат, что он качает меня и носит на загорках домой и назад, в детский дом. Роза и Саша прибегали к нам в казенное учреждение угоститься хлебом, который мы с Любой приберегали для них. Эти кусочки они съедали, как шоколадку. Дети детского дома и сельские дети жили дружно, не конфликтовали. Местные жители жалели детей блокадного Ленинграда, а некоторые завидовали – о них заботилось государство. Многие семьи в селе голодали, взрослые и дети умирали от голода и болезней. Моя сестра Люба, вспоминая о времени, проведённом в детском доме, рассказывает о мальчике, который встречал нашу маму, когда она приходила нас навестить, прижимался к ней и говорил:
– А моя мама умерла.
Мама, в глубине души, жалела всех детей, попавших в беду.
Пожар
Как я уже рассказала ранее, детский дом размещался в двух зданиях: в большом корпусе жили дети постарше, а младшая группа детей, в которой была и я, размещалась в маленьком домике. Пожар случился осенью, в ночное время. Нас, младшую группу детей, спас буквально из огня работник детского дома дядя Вася. Был он высокий, большой и сильный, но не умел говорить и не мог позвать на помощь. Дяденька хватал нас, детей, в охапку и относил в главный корпус. В детском доме все дети были разбужены суматохой. Те, кто смогли, выбежали из корпуса, помогали взрослым в тушении пожара и спасении малых детей. Моя средняя сестра Люба помнит этот случай, как бежала за дядей Васей и кричала:
– Моя Томочка, отдайте, это моя сестра.
После пожара все группы детей уже жили все вместе в одном корпусе. Отдельной кровати у меня не было, и я спала вместе со своей сестрой Любой. Одежды и обуви на всех не хватало. На улицу погулять или элементарно сбегать в туалет, было проблемой. Удобства, как во всех деревнях, были во дворе. Бегали по очереди. Зимой, когда дети ходили в школу, обувь выдавалась на двоих детей, первой и второй смены. Питались мы теперь в одной столовой. Мне она казалась огромной.
В столовой стояли столы и стулья. За каждым столом сидело по четыре человека. Суп в тарелках и компот в стаканах ставили на столы заранее. Остальную еду разносила женщина. Сложнее всего было разнести хлеб. Его разносчица несла на подносе, высоко подняв над головой. Мальчишки, голодные и наиболее бойкие, норовили дотянуться до хлеба и схватить именно горбушку, говорили, что с неё больше нажёвывается хлеба. Тем, кто постарше или смелее, достаются кусочки побольше, а нам, малышам – самые маленькие. Мне, слабой и робкой, ничего бы не доставалось, если бы не сестра моя Люба, опекавшая и защищавшая меня. Кормили скудно, но четыре раза в день. Ребята даже частушку сложили:
«Дядя Гена, старший повар,
по три ложки нам даёт.
А добавочки попросишь,
Подзатылину даёт».
Самых слабых подкармливали отдельно, оставляли в столовой и давали бруснику с сахаром, и я всегда ждала эту небольшую порцию сладкого. В моей деревне Чеканихе, расположенной в сосновом бору, как раз росла брусника. Вероятно, поэтому к этой ягоде у меня до сих пор особое отношение. Работники детского дома и старшие дети заготавливали её на зиму. У детского дома было своё подсобное хозяйство, и был скотный двор, где держали скотину. В рационе детей было молоко, мясо, яйца. Даже при таком питании мы с сестрой не ели пряники, которые по праздникам нам давали в детдомовской столовой, а сохраняли и несли домой для маленького Кольки. Я помню, что у нас дома на стенке у окна висел матерчатый мешочек, и мы с Любой, приходя домой, складывали в него кусочки хлеба, печенье, пряники.
Найдёныш
Однажды зимой, среди ночи нас разбудили голоса взрослых. Они вошли в спальню девочек в тулупах, с фонарями. Мужчины принесли свёрток и, оставив его, ушли. Ночная нянечка успокаивала нас, укладывала спать, говорила, что ничего не случилось. Утром, проснувшись, я увидела на соседней кровати сидящую девочку, красивую, светловолосую, с большими голубыми глазами. Старшие девочки рассказывали друг дружке о том, что девочку нашли в стогу сена, когда ездили за кормом для домашней скотины. Мать или кто-то другой бросили девочку полутора лет на верную гибель вдалеке от жилья и людей. Никто не знал её имени и фамилии, дети детского дома назвали её Галей Фонаревой. Девочки играли с ней как с куклой. Расчёсывали её белокурые волосы, наряжали, как могли. Обуви у неё не было, пол был холодный, и девочки передавали Галю из рук в руки, или она сидела и играла на кровати в спальне.
На праздник Первое мая детям в детском доме дали по куриному яичку, а малышам не хватило, и нам дали по прянику. Сказали, что пришла гуманитарная помощь из Америки. Это была коробка с пряниками. Гале Фонаревой дали два пряника, как самой маленькой и всеми любимой. К вечеру у всех малышей поднялся жар, все, кто ел пряники, заболели – отравились. Утром нас погрузили на большую лодку или баржу и повезли в райцентр Усть-Пристань, в больницу. Этот момент хорошо запомнила моя сестра Люба, как она бежала по берегу Оби, плакала и кричала:
– Томочка, моя Томочка, куда её повезли?
В больнице я помню то, что противоположная стена – это огромная пылающая печь и мне очень жарко. Печь постепенно остывала – у меня нормализовывалась температура. Когда я стала выздоравливать и садиться на кровати, то увидела, что с другой стороны лежит Галя Фонарева. Однажды утром я проснулась на кровати одна, девочки-найдёныша не было. Мальчик с соседней кровати сказал, что её унесли нянечки. Галя Фонарева, брошенная в стогу сена на лугах, не умершая от холода и голода, умерла. Так впервые я встретилась с таким страшным и обычным явлением как смерть. От судьбы не уйдёшь. Не суждено было жить дальше этой красивой и ко всем ласковой девочке.