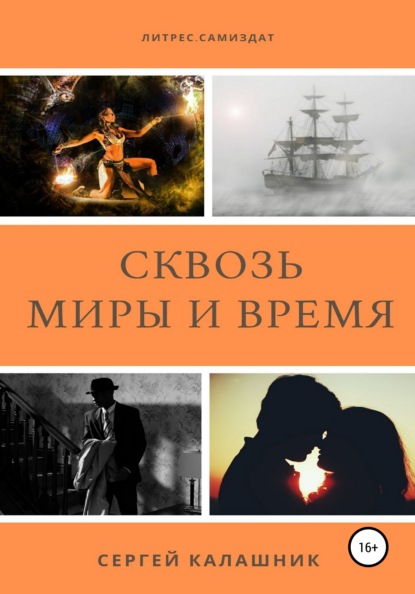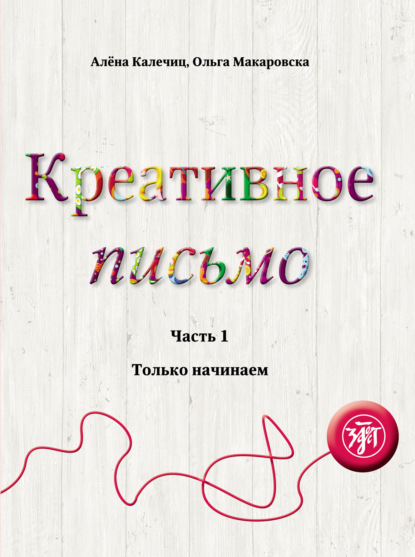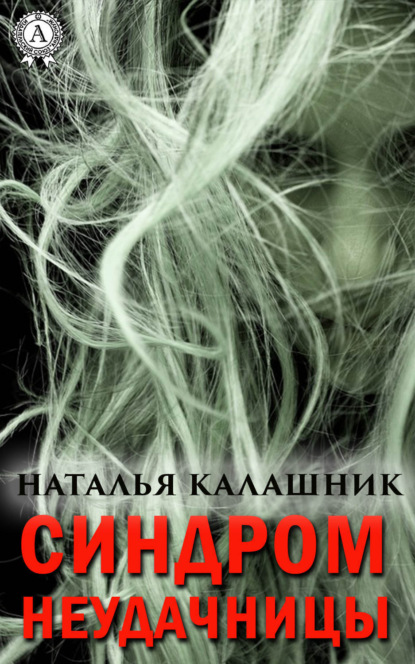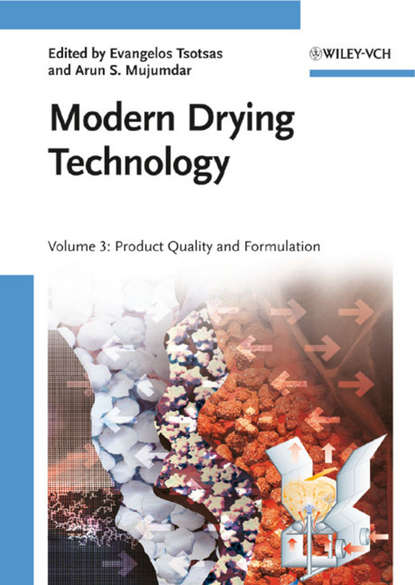Звездный бруствер. Книга 5

- -
- 100%
- +
Когда все собрались в зале совещаний, он поприветствовал присутствующих кивком, без лишних слов. Зал был оборудован под полный спектр анализа: стены покрыты динамическими экранами, пол – интерактивной поверхностью, центр занят круглым тактическим столом с проекцией гиперпространственных координат. Воздух слегка вибрировал от фонового энергопотока систем поддержки.
– План атаки на звёздный сектор готов, – начал он, его взгляд скользнул по лицам командующих. – Келла, ознакомь командующих с деталями.
Келла активировала проекцию. В центре зала возникла объёмная звёздная карта сектора Ту’мов, масштабируемая до уровня отдельных станций. Над ней – графики энергетических выбросов, временные линии, векторы движения, тепловые карты плотности обороны. Её «голос», синтезированный и лишённый модуляций, звучал чётко и деловито, каждое слово сопровождалось визуализацией данных – не просто изображением, а интерактивной моделью, которую можно было вращать, масштабировать, запрашивать параметры по касанию.
Она начала говорить, представляя план атаки: маршруты движения флотов, рассчитанные с учётом гравитационных теней и помех в гиперканалах, временные рамки с привязкой к циклам сканирования Ту’мов, возможные угрозы – включая скрытые датчики-ловушки и мобильные платформы-разрушители, – и точки концентрации сил противника, выявленные по аномалиям в энергопотреблении.
Доклад длился около двух часов. Никто не скучал. Все внимательно вникали в детали, отслеживали смену секторов, анализировали логику развёртывания. Командующие задавали вопросы – не риторические, а узконаправленные: по времени реакции при срыве синхронизации, по резервным каналам связи, по алгоритмам перехвата управления в случае повреждения БИС. Келла отвечала мгновенно, её системы моментально обрабатывали запросы, выдавая не просто данные, а сжатые аналитические блоки с вероятностными оценками и альтернативными сценариями.
После дискуссий и обсуждений в план внесли дополнительные коррективы. Некоторые маршруты атаки скорректировали – особенно в секторе Г-12, где фоновая радиация оказалась выше расчётной, что могло повлиять на работу навигационных систем. Тактика взаимодействия между флотами была уточнена: введены дополнительные протоколы тишины и резервные частоты для экстренной связи. В итоге план операции стал ещё более совершенным – не идеальным, потому что идеального не бывает, но максимально устойчивым к сбоям.
Командующим всей операцией был назначен адмирал Фу-Линь. Его спокойствие, аналитический ум и способность держать в голове сотни параметров одновременно делали его идеальным стратегом. Общее руководство пятью флотами осуществлялось именно им.
На огромных кораблях флота людей не было. Все они шли в автоматическом режиме под управлением БИС (боевых интеллектуальных систем), с возможностью ручного управления только в крайних случаях. Флоты были разделены на группы, каждая из которых выполняла свою задачу с минимальным пересечением функций.
Главным ударным флотом командовал Иевлев Сергей Александрович. Он быстро рос в иерархии – не благодаря покровительству, а из-за результатов. Его назначение никого не удивило. Его решительность и способность принимать быстрые решения в критических ситуациях уже не раз доказывали свою эффективность.
Флот правого фланга возглавил Алексей Говоров, бывший пилот истребителей, прошедший через три локальных конфликта. Его храбрость и тактическое мышление, особенно в условиях ограниченной информации, сделали его одной из ключевых фигур операции.
На левом фланге командовал Серов Леонид Михайлович – опытный стратег, известный своей осторожностью и вниманием к деталям. Его флот всегда приходил в срок, с минимальными потерями.
Нижнюю полусферу обеспечивал флот под командованием Генриха Миллера. Его задача – надёжно прикрыть это направление.
Резервным флотом командовал Нилов Константин Петрович. Его задача – быть готовым к действиям в любой момент, если ситуация потребует переброски сил, прикрытия отхода или контрудара.
Каждый командующий получил свой пакет инструкций, синхронизированный с общим планом. Они понимали, что от их действий зависит успех всей операции.
Артамонов, заканчивая совещание, поднялся со своего места. Он обвёл взглядом присутствующих и заговорил:
– Удачи вам всем. Вы знаете, что делать. Отправляйтесь к своим флотам.
Командующие покинули зал совещаний один за другим, не задерживаясь на прощальные ритуалы. Каждый направлялся к своему флагману – крупному командному кораблю, встроенному в самое ядро своего флота, защищённому плотным кольцом крейсеров, эсминцев и дронов сопровождения. Флагманы не были самыми мощными кораблями в строю, но они обладали максимальной связью, вычислительной мощностью и системами координации.
Командующие осуществляли управление своими флотами через БИС (боевые интеллектуальные системы) – не просто как операторы, а как стратегические звенья, принимающие решения на уровне тактических узлов, корректируя планы в реальном времени, анализируя потоки данных, поступающие от тысяч источников. Их главная задача заключалась не в ведении боя напрямую, а в стратегическом планировании, распределении ресурсов, синхронизации действий между эскадрами.
Артамонов, оставшись один в зале, ещё раз активировал общий канал связи. Его голограмма, синхронизированная с системами всех флагманов, появилась на центральных экранах, чёткая, без помех, в масштабе 1:1.
– Запомните, ни в коем случае не ввязывайтесь в битву сами, я имею в виду лично, – произнёс он, делая акцент на каждом слове, как будто встраивал команду в подсознание. – Для ведения битвы у вас есть все возможности: автоматика, дроны, огневые группы. Ваша задача – руководить и командовать. Не становитесь мишенью. Не теряйте контроль. Вы мозг своих флотов.
Его слова звучали как напутствие, но в них чувствовалась не просто инструкция – чувствовалась тревога. Он прекрасно понимал, что их жизни зависят не только от их решений, но и от того, насколько эффективно будут работать системы защиты, насколько быстро БИС отреагируют на атаки, насколько стабильной останется связь при входе в зону помех.
На этом краткое напутствие и прощание закончилось.
Флоты стартовали по заранее согласованному графику. Огромные корабли медленно, но уверенно отрывались от орбитальных доков, выстраивались в боевой порядок и занимали позиции в соответствии с планом. Движение было синхронным, без лишних манёвров, без задержек. Через некоторое время, по команде адмирала Фу-Линя, они начали уходить в порталы.
Операция возмездия началась.
Через несколько дней флоты выйдут в открытый космос вблизи звёздных систем Ту’мов. В зону атаки входили координаты планеты Румус – ранее уничтоженной. Однако последние данные разведки отметили там странные засветки: кратковременные выбросы энергии, перемещение крупных объектов, активность в диапазоне низкочастотных сигналов, характерных для строительных или исследовательских работ. Это вызывало вопросы – зачем Ту’мам руины?
Лидер стоял у панорамного окна в своём отсеке, наблюдая, как последний корабль – флагман резервного флота – исчезает в портале, оставляя после себя лишь слабое искажение пространства. Его лицо оставалось задумчивым, без выражения, но в глазах читалась смесь надежды и тревоги. Он понимал, что сделал серьёзный шаг.
Теперь всё зависело от исполнения плана, от точности расчётов Келлы, от работы БИС, от решений командующих и от мужества тех, кто находился на флагманах – не в бою, а в тишине, перед экранами, с мыслью о том, что один неверный приказ может стоить победы.
***
Адмирал Фу-Линь всё время проводил за тактическими картами, погружённый в бесконечные расчёты и симуляции. Его взгляд скользил по звёздным координатам, графикам и прогнозам, словно он искал что-то неуловимое, что могло бы дать решающее преимущество. Что-то удалось улучшить: маршруты движения флотов стали более оптимальными, а схемы взаимодействия – более гибкими. Но кое-что осталось без изменений, ведь в стратегии иногда важнее не менять проверенные решения, не рисковать ради новизны. Теперь только бой покажет, кто сильнее, кто тактически и стратегически умнее.
До выхода из портала оставались считанные часы. Командующий поднялся со своего места, сделал несколько шагов по просторной каюте, чтобы размять затёкшие мышцы, и отправился в рубку флагмана. Там его встретил капитан корабля, который сразу же начал докладывать о текущей ситуации. Фу-Линь внимательно выслушал его, задал несколько уточняющих вопросов, после чего занял своё командирское кресло.
Через несколько мгновений Фу-Линь погрузился в виртуальное пространство, связывающее весь флот в единое целое. Это была странная смесь реальности и цифрового мира, где каждая система, каждый корабль и каждый боевой модуль были представлены в виде символов и потоков данных. В этом пространстве пока никого не было, лишь адмирал и его БИС, готовые к моментальному взаимодействию. Фу-Линь знал, что как только флоты выйдут из портала, связь наладится, и здесь воцарится настоящий хаос данных, требующий молниеносных решений.
Адмирал собрался, его сознание работало чётко, будто отточенный механизм. БИС мгновенно выполнял любую команду, словно предугадывая желания своего хозяина. Как только корабли оказались в обычном пространстве и сняли поля сопряжения, немедленно активировались боевые щиты. Они заструились бликами и прострелами электрических разрядов вокруг кораблей, создавая завораживающую картину защиты.
Фу-Линь видел на своих экранах выходы флотов Иевлева, Говорова и Серова. Их аватары практически мгновенно появились в виртуальном пространстве, словно они ждали только сигнала. Аватар Фу-Линя, воплощение его собственной личности в цифровом мире, слегка наклонил голову в знак приветствия.
– Ну наконец-то… – произнёс Фу-Линь, его голос звучал чуть устало, но с явным облегчением. – Приветствую вас, командующие. Как прошёл выход в обычное пространство? Потери есть?
В ответ раздались уверенные доклады: все корабли вышли без повреждений, потерь нет. Первым отчитался Иевлев, его аватар в виртуальном пространстве был собран и сосредоточен.
– Адмирал, провожу сканирование по курсу. Больших скоплений флотов не наблюдаю.
Адмирал тут же активировал БИС для дополнительной проверки данных. Подтвердив информацию, он задумчиво произнёс:
– Странно… Перед стартом здесь было полно кораблей.
– Возможно, что-то изменилось, – предположил Говоров, его аватар слегка наклонился вперёд, словно он пытался «увидеть» больше через свои системы. – Возможно, Ту’мы готовят нам ловушку?
– На ловушку не похоже, – возразил Серов спокойно. – В ближайшем космосе на световые годы никого нет.
– Какие команды, адмирал? – спросил Нилов, его аватар оставался неподвижным, но в его «голосе» чувствовалась готовность к действию.
Фу-Линь сделал короткую паузу, обдумывая ситуацию. Его взгляд, даже в виртуальном пространстве, казался проницательным и решительным.
– Атакуем то, что есть, а дальше подумаем, что делать, – произнёс он, его тон стал твёрже.
Командующие наблюдали за битвой из виртуальной командной рубки. Их аватары, словно призраки, парили в цифровом пространстве, следя за каждым движением флотов.
***
Корабли Ту’мов заметили массовый выход флотов врага в пределах радиуса в 0,3 светового часа. Сигналы гиперискажений, аномалии в гравитационном фоне, резкие всплески нейтринного излучения – всё это было зафиксировано сенсорами за 17 секунд до появления первых кораблей. Никакой суеты. Ни одного лишнего движения. Системы автоматически перешли в боевой режим, распределили сектора обстрела, активировали огневые узлы, синхронизировали щиты и перенаправили энергопотоки на защиту критических узлов.
Они действовали чётко, по заранее определённому алгоритму, без вариаций, без сомнений.
По всей видимости, этот бой станет для них последним. Данные БИС показывали численное превосходство врага в 4,3 раза, превосходство по огневой мощи – 5,1, по манёвренности – 3,8. Шанс на выживание – менее 0,7%.
Но это не имело значения.
Главное – выполнить задачу: уничтожить как можно больше кораблей врага, задержать продвижение, выиграть время.
БИС боевой группировки Ту’мов отправил доклад об атаке УС звёздного сектора. Сообщение зашифровано, передано по квантовому каналу, с приоритетом первого уровня. Однако УС в это самое время находилась в портале, в состоянии полной изоляции от внешнего пространства. Принять сообщение было невозможно.
По сути, это не имело значения.
Порядок действий в таких случаях строго определён программой. БИС не требовалась внешняя координация. Она действовала автономно, в рамках устава обороны периферийных секторов.
Предстоял неравный бой с превосходящими силами врага.
БИС перешла в режим боевого реагирования. Её атаковали три флота: один – по фронту, два – по флангам, синхронно, с минимальным смещением в 0,4 секунды. Анализ показал, что ещё один флот, вероятно, скрывается в нижней пространственной полусфере, используя гравитационную тень мёртвой звезды для маскировки.
Она быстро прикинула варианты действий: контратака – невозможна из-за нехватки огневой мощи; отступление – исключено, так как за группировкой не было тылов, резервов, ремонтных баз; рассредоточение – нецелесообразно, так как разрозненные корабли будут уничтожены по одиночке.
Принята тактическая схема: концентрация огня по главному ударному фронту, с поэтапным переносом на фланги при приближении. Цель – уничтожить максимальное количество кораблей врага за минимальное время.
Отразить атаку такими силами не удастся. Сдерживать – тоже нечем. Защищать – нечего. За группировкой ничего нет.
А вот и первый залп по фронту.
Энергетические лучи, сформированные плазменными ускорителями вражеских линкоров, пронзили пространство, словно молнии, оставляя за собой световые следы – ионизированный след в разрежённой среде. Щиты кораблей Ту’мов вспыхнули яркими бликами, поглощая удары. Каждый выстрел врага высасывал 8–12% энергии от общего запаса, в зависимости от калибра и угла попадания. Системы перераспределяли нагрузку, отключали второстепенные модули, переводили питание на генераторы щитов.
БИС продолжала анализировать ситуацию, фиксируя темп атаки, точность наведения, схему смены целей. Она пыталась найти выход – не для спасения, а для оптимизации урона.
Эта медлительность врага, который не шёл на прорыв сразу, а развивал атаку поэтапно, играла на руку флотам Создателей.
Но БИС знала: даже замедленное наступление в итоге приведёт к уничтожению.
Она начала отвечать огнём. Первые выстрелы ушли в сторону главного фронта. Бой разгорался.
***
– Иевлев, чего медлишь? Флот на дистанции огневого контакта! – произнёс Фу-Линь, его голос в виртуальном командном пространстве звучал чуть более резко, чем обычно, с чёткой модуляцией, указывающей на напряжение. Его аватар оставался неподвижным, но глаза – точные, как лазерные прицелы, – были устремлены на траектории главного ударного флота.
– Ещё немного, адмирал, чтобы наверняка поразить цели, – ответил Иевлев, на его экране горели данные: 0,8 световой секунды до оптимальной дистанции, 97% синхронизации огневых систем, 100% готовность к пуску. Он ждал долю секунды – не для уверенности, а для максимальной плотности огня.
Через мгновение его флот произвёл массированные пуски ракет и торпед – не единовременно, а волнами, с интервалом в 0,3 секунды, чтобы избежать перегрузки собственных систем наведения. Сотни боевых снарядов, оснащённых гравитационными корректорами траектории, устремились к целям, оставляя за собой светящиеся следы – ионизированный шлейф в разрежённой среде космоса. Ракеты разделялись на фазе приближения, распадаясь на ложные цели и боевые блоки, чтобы обмануть системы ПРО Ту’мов.
Однако флоты по флангам – Говорова и Серова – пока не вышли на дистанцию открытия огня. Их корабли находились в 1,2 и 1,4 световых секундах соответственно.
Далее произошло неожиданное: корабли Ту’мов, вместо того, чтобы сосредоточиться на обороне или контрударе, активировали двигатели и начали маневрировать – не хаотично, а по чёткой схеме, используя микропрыжки на короткие дистанции, прерывистые ускорения и резкие повороты с угловым ускорением, недоступным для большинства биологических пилотов. Они уходили с курса ракет и торпед, уклонялись от зон поражения.
– Неожиданный манёвр, – произнёс Фу-Линь, его голос стал задумчивым, с лёгкой ноткой удивления. – Он, в принципе, ничего не решает. Но показывает, что БИС действует не по шаблону. Говоров, Серов, готовы к огневому контакту?
– К контакту готовы, адмирал, – раздался голос Говорова, его аватар чуть повернулся, отражая активацию флангового огня. – Но пока не вышли на огневую дистанцию. Как только выйдем, сразу открываем огонь.
– Враг успешно маневрирует, учтите это, – беспокойно напомнил Фу-Линь, его взгляд скользнул по трём секторам одновременно. – Ведите огонь с упреждением, корректируйте по последним данным.
– Видим и будем вести огонь с упреждением, – ответил Серов. – Теперь ему и маневрировать-то некуда. Все пути перекрыты…
– Некуда говоришь? – задумчиво произнёс Фу-Линь, словно размышляя вслух. Его взгляд, даже в виртуальном пространстве, стал проницательным, как будто он уже видел то, что ещё не произошло. – Разве что в пространство верхней полусферы?
Он сделал короткую паузу, анализируя последние 20 секунд боевых данных, сопоставляя траектории уклонения, плотность энергетических выбросов, угол поворота корпусов.
– Иевлев, слышишь? Тебя будут атаковать сверху.
– Предполагаю, командующий, и уже произвожу экстренное торможение, – ответил Иевлев, его голос звучал уверенно, но с лёгкой ноткой тревоги. На его экране вспыхнули предупреждения: резкий рост энергетической активности в секторе Z-9, аномалии в гравитационном фоне – признаки формирования ударной группы.
– Отставить торможение! – резко перебил его Фу-Линь. – Наоборот, максимально ускорься, чтобы проскочить сектор атаки Ту’мов!
Иевлев внутренне не соглашался с приказом. Его интуиция, выработанная в десятках сражений, подсказывала, что торможение и компактное построение – единственный способ минимизировать потери при атаке сверху. Но спорить с командующим он не стал. Вместо этого выполнил рекомендацию, приказав своим кораблям увеличить скорость до максимума, активируя резервные реакторы и отключив защиту тыловых секторов.
Флот рванулся вперёд с ускорением 8,4G, корабли выстроились в узкую колонну, сокращая площадь поражения.
Как показало ближайшее будущее, Фу-Линь оказался прав.
Через 6,2 секунды из верхней полусферы, используя гравитационную тень нейтронной звезды, вырвалась группа из 17 кораблей Ту’мов – не для атаки, а для перехвата. Их залп был рассчитан на точку, где должен был находиться флот Иевлева при торможении. Но его корабли уже прошли этот сектор. Энергетические лучи пронзили пустоту. Атака Ту’мов провалилась.
Флот продолжил движение, сохраняя боеспособность, и занял позицию для следующего этапа – фланговой обработки группировки Ту’мов.
Бой продолжался.
***
БИС группировки Ту’мов вела бой чётко, без сбоев, без задержек, как механизм, отточенный миллионами циклов моделирования. Её системы анализировали каждое движение противника – не только текущее, но и предыдущие 18 секунд, экстраполируя поведение на 3,7 секунды вперёд. Каждую секунду она пересчитывала вероятности, корректировала траектории, перераспределяла энергию между щитами, оружием и двигателями. Анализ показывал, что против неё сражались пять флотов, объединённых в единую ударную структуру, с численным превосходством 4,6 к 1, огневым – 5,3, по манёвренности – 3,9. Шанс на выживание – 0,4%.
Но это обстоятельство в данном случае не имело значения. Она не была создана для оценки шансов. Она была создана для выполнения приказа.
Её задача – уничтожить как можно больше кораблей врага, задержать продвижение, выиграть время. Даже если это станет её последним боем.
Она быстро увела группировку в верхнюю полусферу – сектор Z-9, где сканирование не фиксировало активности вражеских сил. Манёвр выполнен безупречно: 37 кораблей, включая линейные платформы и мобильные башни ПВО, совершили синхронный разворот с угловым ускорением 12,3 рад/с, используя комбинированную тягу гравитационных двигателей и импульсных реакторов. Корабли двигались не как отдельные единицы, а как единый организм – единый разум, единая цель.
Сверху они устремились в атаку на флот врага – главный ударный флот под командованием Иевлева. Траектория была рассчитана так, чтобы пересечь его курс в точке максимальной плотности построения.
Противник, как и ожидалось, начал тормозить – вспышки тормозной плазмы вспыхнули по всему фронту, указывая на экстренное снижение скорости. Цель – сманеврировать, изменить угол атаки и ударить снизу, перекрыв путь Ту’мов в тыл.
БИС уже отдала приказ боевым системам приготовиться к открытию огня. Орудийные узлы перешли в режим финальной фокусировки, щиты перераспределились на верхние сектора, энергия реакторов была направлена на накопители залпа. Её «мысли», если можно так назвать поток алгоритмов, текли с предельной скоростью. Она предвкушала момент, когда её залпы поразят цели, когда энергетические лучи пронзят вражеские корабли, когда данные покажут первые потери.
Однако события пошли по другому сценарию.
Флот врага, только что выдавший тормозные столбы плазмы, вдруг неожиданно отменил торможение и начал быстро ускоряться – не по прямой, а по дуге, используя гравитационное притяжение мёртвой звезды для гравитационного броска. Ускорение достигло 9,1G, синхронизировано по всему флоту.
Корабли Ту’мов не успели скорректировать огонь.
Залп был произведён – но не по плотному строю, а по хвосту боевого построения.
Тем не менее атака не прошла впустую.
Корабли группировки Ту’мов, словно ножом, срезали арьергард флота Иевлева. Энергетические лучи пронзили пространство, разрывая щиты, испаряя корпуса. За ними – массированный пуск гравитационных торпед, нацеленных на узлы связи и реакторы.
Ракеты прошивали пространство, меняя траекторию с микросекундной точностью.
Вспышки взрывов осветили космос, словно молнии в грозовом небе. Десятки кораблей – эсминцев, сопровождающих линейные платформы, – были уничтожены или выведены из строя. Ещё больше получили повреждения.
Успех был не полным, но внушительным.
Системы БИС зафиксировали: 83 подтверждённых уничтожения, 41 серьёзное повреждение, 2 линейных корабля противника выведены из строя.
Однако цена была высока. По инерции флот Ту’мов продолжил движение в нижнюю полусферу – туда, где его уже ждал заслон.
БИС понимала, что следующий этап боя будет решающим. Её корабли уже потеряли часть своей мощности, а щиты истощались с каждым новым залпом. Но она не могла позволить себе отступить.
Её «разум», если можно так назвать работу алгоритмов, напрягался до предела. Она знала, что следующие минуты решат всё. Либо её группировка сможет прорвать оборону врага, либо погибнет, выполняя свой долг.
***
– Иевлев, максимально ускоряй флот. Ту’мы совершили манёвр разворота и атакуют сверху, – произнёс Фу-Линь, его голос звучал напряжённо, с лёгкой ноткой уверенности – он уже видел этот сценарий в симуляциях. Он ждал его.
– Вижу, командующий. Ускорился максимально, но все корабли флота из-под удара вывести не смогу… – ответил Иевлев.
И тут, как бы в подтверждение его слов, корабли Ту’мов ударили.
Энергетические лучи, сфокусированные до предела, вспарывали пространство, пронзая щиты с точностью хирурга. Ракеты с гравитационными корректорами меняли траекторию в миллисекундах, обходя ложные цели, врезаясь в узлы связи и реакторы.
Удары Ту’мов буквально сметали тыловую часть флота Иевлева – эсминцы, фрегаты, дроны сопровождения – всё это превращалось в обломки за доли секунды. Пространство быстро заполнилось огнём, горящими корпусами, потоками раскалённой плазмы, летящими в разные стороны. Энергетические всплески искажали сенсоры, создавая помехи в каналах связи. Некоторые корабли взрывались целиком, не успевая даже активировать сигнал бедствия.
Нанеся удар, флот Ту’мов, по инерции продолжая движение, устремился в нижнюю полусферу – по чётко рассчитанной траектории, как будто и не было атаки, как будто это был всего лишь этап их плана.
В боевой обстановке времени на сантименты не было.
Адмирал Фу-Линь анализировал тактическую обстановку через прямой нейроинтерфейс, в потоке данных, где каждый вектор, каждый импульс, каждый выброс энергии становился частью единой картины. Его «разум» работал с предельной скоростью, перебирая тысячи вариантов, отбрасывая невозможные, фокусируясь на вероятных.
И он пришёл к выводу, что теперь Ту’мы в ловушке.
Они ускорялись летели в нижнюю полусферу, прямо в зону, где их уже ждал флот Миллера – в засаде, спрятанной за гравитационной тенью астероидного пояса.