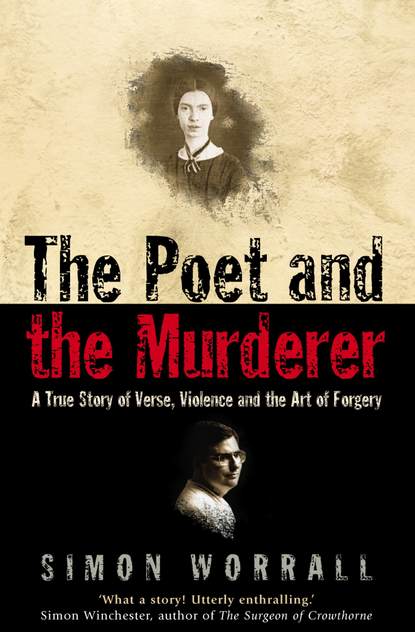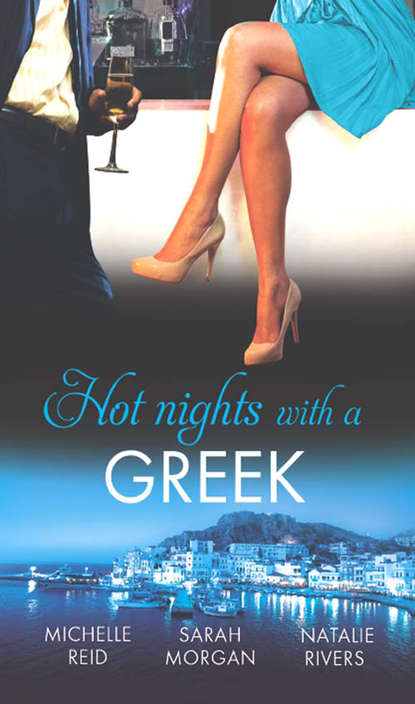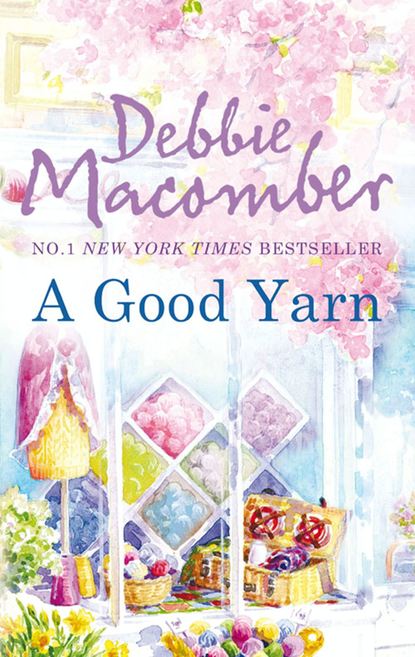- -
- 100%
- +

Посвящается мои детям
Что бы ни случилось в вашей жизни, помните: вы всегда можете вернуться домой. Вас всегда там ждут.
Какими бы вы ни были, что бы ни делали, я люблю вас – без условий, без оговорок, просто за то, что вы есть, запомните это!
Вы – самое лучшее, что когда-либо было в моей жизни.
Вы – моё сердце, мой дом, моя бесконечная любовь.
Пусть у каждого из вас будет свой путь – настоящий, светлый и счастливый.
И пусть этот путь всегда ведёт вас к себе.
С любовью, ваша мама

«Каждый просто ждет что его возьмут в руки»
Дом был как коробка – деревянный, душный, будто изнутри наполненный чужим дыханием, спертым и мерзким. Полы стонали даже тогда, когда никто не ходил. Шторы шевелились, хотя окна были наглухо закрыты. Он существовал, чтобы напоминать своим обитателям о тяготах этого мира.
Аня знала: дом живой. Он всё слышит. Он пугал ее и притягивал одновременно. Наверху в шкафу, в ее комнате, стояли игрушки. Много. Целый полк – со сбитыми носами, без рук, с глазами, которые смотрели в никуда. В принципе как и все в этом доме сломанные внутри, с безжизненным потухшим взглядом, безнадежно проживающие день ото дня не свою жизнь.
Мама не разрешала Ане выбрасывать куклы и всегда говорила: «они такие страшные, потому что ты с ними плохо играешь».
Аня была единственным ребенком в семье, поэтому она проводила с игрушками каждый день. Пытаясь их подчинить, дорисовать недостающие части на лице, разговаривала с ними, гладила по щеке и извинялась, если уронила.
Ей казалось, что они ей отвечают. Шевелятся чуть-чуть, будто дышат. А в ночи тихо потрескивает пластмасса, как дыхание кого-то, кто не спит.
Но страшнее всего было не это. Страшнее были взрослые. Которые тоже играли. Только не в куклы, а друг другом.
Мама обижалась, наказывала молчанием, потом смеялась, потом снова плакала, как будто кто-то дёргал за ниточки. Отец хлопал дверью, уходил, возвращался пьяным, затем извинялся и так по кругу. В доме всё казалось спектаклем, в котором никто не помнил сценарий, но все знали, что должны играть.
Дом сам выбирает, кто кем будет: кто кукла, кто игрок. И в какой-то момент Аня поняла – разницы, может, и нет. Каждый просто ждёт, когда его возьмут в руки.
Глава 1. Сладкая жертва

«Иногда тишина громче любого крика»
Анна проснулась от привычной тишины – не той, что бывает ночью, а утренней, прозрачной, когда кажется, будто весь дом затаил дыхание, ожидая, с чего начнётся день.
Она полежала немного, прислушиваясь к себе: к мягкому жужжанию в голове, к далёкому звуку кофеварки. Марк уже встал – он всегда вставал первым. У него была особая дисциплина: просыпаться с намерением, даже если делать ничего не нужно.
Запах кофе добрался до спальни, и Анна поняла, что пора – пора включиться, стать собой. Вернее, той собой, которую ждёт Марк. Она села на край кровати, провела рукой по одеялу – ткань ещё хранила её тепло, но в этом тепле не было присутствия.
На подоконнике сидела фарфоровая балерина, белая, как капля молока. Марк подарил её на пятую годовщину свадьбы, сказав, что она напоминает ему Анну —такая же «хрупкая, но сильная». С тех пор фигурка стояла на своём месте, чуть наклонив голову, будто слушалась и подчинялась своему хозяину. Иногда Анне казалось, что балерина улыбается ей одобрительно, а иногда – с лёгким укором. Сегодня она глядела прямо, слишком внимательно, будто подозревала в чём-то.
Марк и Анна познакомились, когда ей было двадцать два. Она тогда отходила от болезненных отношений, и он стал для неё спасением. Высокий, статный брюнет с тёмно-карими глазами, Марк излучал уверенность. Казалось, что у него всё под контролем, что он справится с любой ситуацией, приготовленной судьбой. Всё в нём было выверено: выглаженные рубашки, чистые туфли, ровные линии мебели. В его доме порядок был не привычкой, а способом удерживать мир на своих плечах. И, возможно, именно так он и жил – в мире, где нельзя позволить себе слабость.
Когда Марку было четырнадцать, отец ушёл из семьи. Мать винила себя, и это чувство вины, вперемешку со страхом остаться одной, пожирало её изнутри. Она искала утешения и ощущение нужности в других мужчинах, но лишь вновь ударялась о разочарование, как волна – о волнорез. Постепенно она замкнулась в себе.
Марк был предоставлен самому себе. Он понял, что теперь должен быть взрослым, заботиться не только о себе, но и о матери, выполнять роль, которую оставил отец: защищать, контролировать, держать всё в своих руках.. В самые тихие ночи он лежал в темноте и думал, что ответственность – это не просто слово, а длинная цепь, от которой нельзя отделаться.
Чтобы не расстраивать мать, он научился скрывать эмоции. Иногда внутри вспыхивали злость, усталость или одиночество, но наружу он выпускал только равнодушие. Несмотря на внешнюю холодность, в нём жила хрупкая душа, жаждущая любви. Марк загонял её всё глубже и глубже – пока не перестал слышать вовсе. А за всё приходится платить. Алкоголь стал его тайной дверью в свободу – вечерним ритуалом, не зависимостью, а способом выжить, позволить себе хоть немного побыть живым.
Марк верил, что порядок спасает мир. Каждое утро – как репетиция: кофе, рубашка, чистота, график. Каждое движение точное, каждое слово продуманное. Даже мысли об Анне – осторожные, как шаг по стеклу. Она стала частью его мира, частью структуры, где он чувствовал уверенность. Он не понимал, что его ровность, внимание к деталям, привычка «делать всё правильно» втягивают Анну в игру постоянного контроля и подстраивания. Она стала похожа на куклу в его руках, он управлял ее жизнью и решал, что правильно, а что нет. Такой большой, сильный и надёжный «взрослый», которого ей не хватало в детстве. Их отношения были как та фарфоровая балерина: идеально красивые, послушные, но внутри – пустота и трещины, которых никто не замечал. И в этой хрупкости была их невидимая связь – нитка, которую они оба тянули, не осознавая. Для Марка это была забота. Для Анны – смысл жизни.
Никто из них ещё не понимал, что игра уже началась.

Кухня встретила Анну ровным светом. Марк стоял у плиты – идеально выглаженная рубашка, рукава закатаны до локтей, лицо сосредоточено, как у хирурга. Кофе был готов. На столе стояли две чашки, выровненные по краю подставки. Всё – на своих местах, как всегда.
– Доброе утро, – сказала Анна.
– Доброе, – Марк даже не обернулся. – Ты опять поздно легла?
– Немного. – Она потянулась к чашке, но остановилась, когда он тихо сказал:
– Подожди. – Он сам пододвинул чашку, будто боялся, что она сделает что-то не так.
Анна улыбнулась – блекло.
– Спасибо.
Он сел напротив, пролистал телефон.
– Сегодня встреча в шесть, потом ужин с клиентом. Не жди, хорошо?
– Как скажешь, – ответила она слишком быстро.
– И, пожалуйста, не забудь, что завтра встреча с мамой. Она будет расстроена, если ты опять что-то перепутаешь. – Голос его был ровным, но в каждом слове ощущался вес.
Анна кивнула, почувствовав знакомое покалывание в груди – смесь обиды и вины. Ей хотелось сказать, что она не ребёнок, что всё помнит, что может сама. Но язык не повернулся.

Анна всей душой не любила ездить к его матери. Эти вечера всегда проходили под маской любезной наигранности.
Дом Дарьи Сергеевны стоял на окраине города – аккуратный, с подстриженными кустами и одинаковыми кружевными занавесками на каждом окне. Снаружи он выглядел идеально, почти кукольным. Внутри – то же самое: застлано, расставлено, чисто. Только воздух был другой – плотный, будто кто-то когда-то плакал здесь, и слёзы так и не высохли. Каждый раз, переступая порог, Анна чувствовала себя гостьей, которую обязаны терпеть.
– О, Анечка, как ты похорошела! – говорила Дарья Сергеевна и тут же добавляла: – Хотя тебе бы лучше короткую стрижку – открывает лицо.
Марк улыбался. Ему казалось, что это просто дружеское замечание. Анна кивала, благодарила за совет, но внутри подступали слёзы – жалость к себе и к тому, что её не видят.
За ужином мать разговаривала в основном с сыном. Они обсуждали работу, политику, воспоминания. Анна слушала, поддакивала, пыталась вставить пару фраз – и каждый раз разговор словно сворачивал в сторону, будто её слова были не в тему.
Иногда она начинала говорить о себе, о курсах, о клиентах – Дарья Сергеевна кивала и снова обращалась к сыну.
Анна сидела и чувствовала, как исчезает. Не буквально, а будто кто-то вынимает её из кадра. Всё становилось мягким, приглушённым. Её присутствие растворялось между стенами и запахом еды. Марк был внимателен, но не к ней. Анна ловила себя на том, что ждёт хотя бы взгляда, прикосновения, короткого вопроса: «Ты как?» – но ничего не было.
Когда они уезжали, Анна чувствовала себя выжатой. По дороге домой в машине стояла тишина. Марк сосредоточенно смотрел на дорогу, а она – в окно, где огни города смазывались в длинную линию.
– Что-то случилось? – наконец спрашивал он.
– Нет, – тихо отвечала она.
– У тебя был какой-то тон за ужином, – говорил он ровно. – Мама могла подумать, что ты недовольна.
– Я просто устала.
– Всё время устала, всё время что-то не так. А можно просто… быть нормальной? – его голос звучал без злости, но от этой ровности становилось больнее.
Анна молчала. Внутри что-то шевельнулось – старое, детское. То самое чувство, когда мама молчала, а отец хлопал дверью. Когда хотелось сказать: посмотри на меня, я здесь.
Но вместо этого она сжимала руки на коленях и отвечала:
– Прости. Наверное, я правда не так сказала.
Марк кивал, будто всё вставало на свои места. Машина скользила по дороге, свет фар разбивал темноту на куски. Анна смотрела вперёд и думала, что они едут не домой, а по кругу, где всё повторяется: ужин, тишина, вина. И в этой тишине она снова чувствовала себя маленькой девочкой, сидящей среди кукол и старающейся быть хорошей, чтобы кто-то, наконец, повернулся к ней лицом.

Кофе остыл. Анна крутила ложку в чашке, наблюдая, как редкие пузырьки поднимаются на поверхность.
– Марк, – начала она осторожно.
Он не сразу ответил. Экран телефона отражал его сосредоточенное, без единой случайной эмоции лицо.
– Что?
– Ты счастлив? – слова вырвались неожиданно даже для неё самой.
Он поднял глаза:
– Что за вопрос?
– Просто… Иногда кажется, что что-то между нами стало по-другому. Ты рядом, но как будто через стекло.
Марк усмехнулся.
– Аня, у тебя опять начинается. Всё же нормально. У нас дом, порядок, стабильность. У тебя есть всё.
– Всё, кроме тебя, – тихо сказала она.
Он вздохнул, отставил чашку:
– Ты драматизируешь. У тебя вечная потребность искать проблему там, где её нет.
– Может, я просто хочу понять, – она говорила всё тише, – когда мы перестали говорить не о делах, не о планах, а просто…
– Просто?! – воскликнул Марк. – Просто – это в двадцать лет, когда нечего делать и можно болтать о пустяках. У нас взрослая жизнь, Аня. Надо ценить то, что есть.
– А если мне кажется, что я теряюсь в этом «что есть»?
Он посмотрел на неё долгим, ровным взглядом – без раздражения, без тепла, только усталость.
– Значит, тебе нужно заняться делом и перестать искать смысл в каждом разговоре.
Она почувствовала, как внутри всё съёживается – будто снова стала маленькой и каждое не то слово карается упрёком.
– Я просто хочу, чтобы ты услышал.
– Я слышу, – ответил он, но в голосе не было жизни. – Просто не понимаю, чего тебе не хватает. Всё ведь есть. Всё!
Она кивнула.
– Да, наверное. Просто иногда кажется, что это «всё» – как музей. Красиво, чисто, но нельзя трогать.
Он пожал плечами.
– Лучше музей, чем хаос.
Анна опустила глаза в чашку. В отражении – её бледное, уставшее лицо и Марк за спиной.
– Мы правда поедем завтра к твоей маме? – спросила она тихо.
– Конечно. Она ждёт. И, пожалуйста, – его голос стал твёрже, – постарайся не спорить. Ей тяжело сейчас.
– Хорошо, Марк. Как скажешь.
Он кивнул, будто поставил точку.
И у Анны пронеслась мысль:
«Иногда тишина громче любого крика».

Анна вышла из дома почти не глядя под ноги.
Воздух был серым, вязким, как будто город не проснулся. Она шла быстро, пока сердце не перестало бешено колотиться после разговора с Марком.
Телефон в руке сам подсказал: «Вера».
Её номер всегда был тем спасательным кругом, за который Аня хваталась, когда становилось особенно пусто.
– Вер, ты дома?
– А где мне быть? Заходи. Я блины жарю как раз, приходи.
Вера жила всего в двух кварталах, в старом доме с облупившейся штукатуркой и вечно теплыми окнами. Туда Анна могла дойти с закрытыми глазами: знакомая трещина на асфальте у подъезда, запах жареного масла с первого этажа, звук детских голосов во дворе. У Веры всегда было как-то по-домашнему, не идеально, но живо. В прихожей валялись детские ботинки, на стуле – мужская куртка, а на подоконнике спал кот, свернувшись в клубок, как символ тихого хаоса. Анна часто думала, что именно у Веры всё «по-настоящему»: жизнь без глянца, без выверенных фраз, без страха разбить чашку. Там можно было вздохнуть. Там можно было быть собой… или, по крайней мере, тем, кем хотелось казаться. Она поднялась по лестнице, постучала и почти сразу услышала, как из-за двери донеслось бодрое:
– Открыто! Проходи, я на кухне! Привет, я только первую партию сняла!
Вера стояла у плиты, невысокая, полноватая, с тёплыми глазами и небрежно собранными русыми волосами, в которых всегда торчало пару прядей, как антенны усталости. На ней были старые домашние штаны и майка с потёртой надписью my house, my rules1 .
Когда-то она была очень красива: тонкие черты, зелёные глаза, улыбка, от которой в университете сходила с ума половина парней. Но теперь её красота, как и всё в этой квартире, немного потускнела, устав от быта и забот.
Вере было тридцать пять. С Анной они познакомились десять лет назад на курсах по копирайтингу, куда обе пришли «переучиваться» после кризиса. С тех пор стали неразлучны: вместе смеялись, обсуждали мужчин, пили вино на кухнях и писали друг другу ночные сообщения, когда «всё снова не так».
Аня восхищалась Верой, её прямотой, теплом, каким-то настоящим внутренним светом, который не погас даже под слоем усталости. Вера же любила Аню за спокойствие, за способность выслушать, за ощущение, что рядом с ней жизнь становится чуть понятнее.
– Ну что, красавица, – сказала Вера, переворачивая блин. – Опять с Марком поругалась?
Вера вытерла руки о полотенце и улыбнулась. Улыбка была привычной, но глаза усталые, с потёками туши, как будто даже ресницы устали держаться.
Анна села за стол.
– Не поругались. Просто… я говорю, а он будто не слышит. Как стена, – томно пробормотала женщина.
– Они все такие, – махнула рукой Вера. – Мой вот третий день лежит. Говорю – встань, помоги мне с детьми, а он телевизор смотрит. Я уже думаю, может, он сросся с диваном.
Анна рассмеялась, но смех был какой-то нервный:
– Ты же не можешь так вечно, Вер.
– А как по-другому? – Вера села за стол, задула на горячий блин, устало подперев подбородок ладонью. – Двое детей, работа, кредиты… кому я нужна? Он хоть за коммуналку платит – уже радость.
– Сколько вы уже вместе? – спросила Анна, растирая замёрзшие пальцы кружкой горячего чая.
– Девять лет. Познакомились в баре, – улыбнулась Вера, вспоминая, и в этой улыбке мелькнуло что-то юное, почти забытое. – Он так красиво ухаживал: цветы, прогулки по набережной, разговоры до утра. Знаешь, я тогда думала: вот он, тот самый. Мужчина, с которым будет просто и спокойно. А теперь… цветы только на кладбище носит… к пульту, который умер от скуки.
Анна тихо засмеялась, но в этом смехе было больше боли, чем веселья.
– Вер, ты ведь понимаешь, что так нельзя?
– Да что ты всё «нельзя» да «нельзя»? – вздохнула Вера. – Все живут, как могут. Главное, чтобы дети были накормлены. Да и в конце концов у них есть родной отец, в отличие от меня.
– Нет, – мягко сказала Анна. – Главное, чтобы ты жила, а не выживала. Муж – это не третий ребёнок. Тебе нужно, чтобы тебя поддерживали, а не тянули вниз.
Вера усмехнулась.
– Говоришь как психолог.
– Может, просто слишком часто сама падаю в ту же яму, – тихо ответила Анна.
– И что, помогаешь себе своими советами? – в голосе Веры прозвучала не насмешка, а грусть.
Они обе замолчали.
Анна смотрела на кухню, светлую, но уставшую, как сама Вера.
На холодильнике висели рисунки детей, на подоконнике – кружка с засохшим пакетиком чая, рядом – пепельница с окурками. В зале на диване лежал её муж, в растянутой футболке, с телефоном в руке. Он даже не обернулся, когда Анна вошла. Только лениво кивнул, будто приветствовал не человека, а звук. Когда-то он был другим. Смеялся, строил планы, говорил, что мечтает открыть автомастерскую. Вера тогда верила ему каждому слову, подталкивала, вдохновляла. А потом родились дети, усталость, недосып. Он сказал: «Потом». Потом растянулось на годы. Вера сначала жалела его, затем себя, потом просто перестала ждать. Сначала она гладила ему рубашки, потом перестала. Сначала он обещал «всё наладить», потом перестал даже обещать. Теперь он жил как будто в полудрёме, а Вера – вокруг него, тихая, сгорбленная, но всё ещё с надеждой, будто этот сон можно развеять.
Анна вдруг поняла, что всё это будто спектакль, который она уже видела. Та же сцена, только другие актёры. Та же усталость в голосе женщины, тот же безразличный мужчина. И где-то за занавесом кто-то тянет ниточки, расставляет роли, меняет реплики. Анна опустила взгляд на свои руки и подумала: «Может, все мы куклы, только нитки держим друг у друга? Мужья тянут за чувство вины, жёны – за надежду. И чем сильнее дёргаешь, тем крепче узел. А кто-то наверху, невидимый, улыбается: игра удалась».
Она тихо вздохнула и прошептала:.
– Всё одно и то же, Только куклы меняются.
– Что? – переспросила Вера.
– Ничего, – ответила Анна.
Вера поставила перед ней тарелку блинов.
– Ешь. А то спасёшь весь мир, а про себя забудешь.
Анна улыбнулась – устало, почти виновато.
– Себя я уже забыла, Вер, – сказала она тихо и вдруг осознала, как страшно звучит эта правда.
Глава 2. Игрушки маминых рук

«Свет если им выжигать, превращается в огонь»
Анна вернулась домой. Дверь мягко закрылась за ней, будто боялась нарушить чужой покой. В квартире стояла тишина: ровная и настороженная.
Марк был на встрече с клиентом, и впервые за день она оказалась одна. Никаких голосов, запаха кофе, ровных замечаний. Только гул холодильника и приглушённый свет из окна.
Она поставила сумку у двери, сняла пальто и вдруг поймала себя на ощущении, будто снова дома, но не у себя. В том, старом. В детстве. Она всегда ненавидела возвращаться туда. Когда заходила в подъезд, уже знала: нельзя шуметь. Нельзя хлопнуть дверью, включить громко воду, даже громко вздохнуть. Потому что «он» спит.
Он – пьяный отец, вернувшийся домой, пропахший перегаром и обидой, тяжело дышащий на диване. Мама встречала её у двери, всегда шёпотом, будто в церкви.
– Тише, Ань. Разбудишь – начнётся.
– Он опять пил?
– Просто устал. Ты иди к себе, ладно? Не мешай.
Анна проходила по коридору босиком, стараясь не наступить на скрипучую доску старого пола. Из комнаты доносилось ровное похрапывание и ужасная смесь спёртых запахов перегара, табака и пота. Она закрывалась у себя, садилась на кровать и ждала, когда тишина снова станет просто тишиной. Но она никогда не становилась. Даже ночью стены будто дышали вместе с ним, с его сном и с её страхом.
Анна сидела в своей комнате и прижимала подушку к груди, считая вдохи и выдохи. Она мечтала, что когда-нибудь уедет далеко, в город, где люди говорят спокойно, без повышенных тонов, и где никто не боится шагов по коридору. Иногда представляла, как мама идёт за ней. Они живут вдвоём, без отца. Без эмоциональных скандалов. Без животного страха.
Но мама не шла. Каждое утро мама оставалась. Анна часто задавалась вопросом: почему? Почему мама не уходит? Почему терпит все эти оскорбления в свой адрес?
И в ответ слышала то же:
– Он просто устал, не осознаёт, что говорит. Он правда хороший. Это всё алкоголь затуманил ему сознание. Ему сейчас тяжело. Если я уйду, он пропадёт без меня.
«Хороший?» – думала Анна. – «Хороший не кричит. Хороший не делает так, чтобы хотелось исчезнуть».
Но сейчас, будучи взрослой, глядя на Веру, Аня поняла: мама не уходила не из любви, а из страха. Страха остаться одной, без денег, без уверенности, что кто-то вообще заметит её существование. Мама привыкла к тому, что смысл её жизни – заботиться. О муже, о доме, о дочери. Её «я» растворилось между кастрюлями, стиркой, просьбами «будь тише» и «не огорчай отца». Она жила не собой, а через других – через то, как они на неё смотрят, как оценивают, как благодарят. Если отец был доволен – значит, день прожит не зря. Если ругался – значит, она плохая. Так незаметно вина стала её привычкой, частью её семейной жизни, а терпение – главным талантом.
Мама всегда говорила:
– Главное – сохранить семью. Мужчинам тяжело, они по-другому не умеют.
Анна слушала и не понимала. Почему сохранить семью важнее, чем сохранить себя? Почему любить – значит терпеть, молчать, стирать чужие ошибки, как грязное бельё, пока не сотрёшь себе руки?
Теперь, спустя годы, Анна знала ответ. Потому что мамы больше не было. Она растворилась. Отец растворился в алкоголе, а мама растворилась в нём. Но она не была виновата в этом, она была лишь той, которой с детства внушали:
«Главное, чтобы тебя любили. Всё остальное потерпишь».
И мама терпела. Она привыкла спрашивать не «хочу ли я?», а «а вдруг без меня он пропадёт?» Она жила как костыль – нужная, пока кто-то не научится стоять. Но никто так и не научился. И в этом был парадокс.
Она боялась одиночества и потому осталась в тюрьме, где была одна.
Она боялась разрушить семью и потому разрушила себя.
Она спасала, чтобы не чувствовать собственной пустоты.
Любила, чтобы быть нужной. И чем сильнее пыталась «исправить» отца, тем глубже увязала в его боли, в его зависимости, в своей миссии быть «светом».
Но свет, если им выжигают, превращается в огонь.
Анна тогда этого не понимала. Она просто видела женщину, которая каждый вечер ждала, когда всё снова «будет хорошо». И каждый раз прощала. Не его, а себя. За то, что снова осталась. Анна тогда клялась себе, что никогда не позволит так с собой обращаться. Никогда не станет ждать, оправдывать, сглаживать. Никогда не будет той женщиной, что говорит шёпотом:
«Не зли, он просто устал».
Но вот она взрослая, в своём доме. Ходит тихо, чтобы не раздражать. Говорит мягко, чтобы не задеть. И снова ждёт… только теперь не хлопка двери, а ровного, холодного взгляда. Мир поменял декорации, но страх всё тот же: ничего не изменилось. Только лица. Раньше был отец, теперь – Марк. И та же выученная осторожность в движениях, то же желание не спровоцировать, не разозлить, не нарушить хрупкий порядок.
Она подошла к окну. Снаружи гудел город, далекий, живой, свободный. Анна смотрела вниз, на светящиеся окна других домов, и думала:
«Сколько таких, как мама? Сколько таких, как я? Тех, кто обещал себе, что никогда не повторит, и всё равно повторил.
Все мы живём одинаково: сначала спасаем, потом страдаем, затем обвиняем».
Анна села на пол, положила руки на колени и вдруг тихо произнесла:
– Мы все… игрушки и игроки. Мы думаем, что играют нами, но на самом деле также играем сами.
Балерина на подоконнике стояла неподвижно, но при свете лампы её тень дрогнула, словно от ветра. Анне показалось, что фигурка чуть наклонила голову – в знак согласия.

Утро было серым, будто не решившим, наступать ли вообще. Анна открыла глаза и сразу почувствовала тяжесть – не физическую, а ту, что живёт где-то под рёбрами. Рядом тихо дышал Марк. Она даже не знала, во сколько он пришёл, поздно, наверное. Или рано. Но сейчас это было неважно. Она лежала, глядя в потолок, и вдруг поняла, что внутри что-то изменилось. Не громко, не резко, как трещина, появившаяся ночью на стекле. Она не знала, что именно в ней сломалось, но впервые за долгое время ясно почувствовала: больше так жить нельзя. Она села аккуратно, чтобы не разбудить Марка. Комната была залита тусклым утренним светом. Фарфоровая балерина на подоконнике, та самая, глядела прямо, без улыбки – будто всё знала. Анна взяла телефон, открыла сообщения. Секунду просто смотрела на пустой экран, потом начала писать: