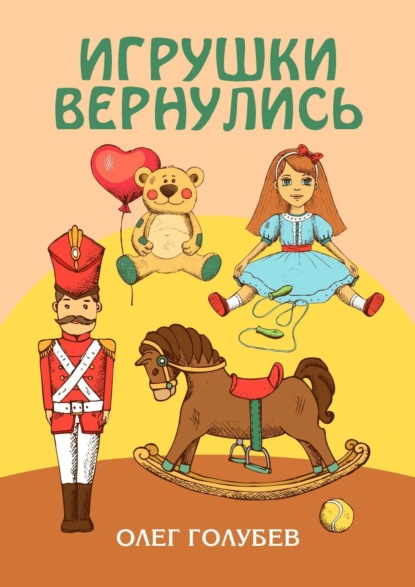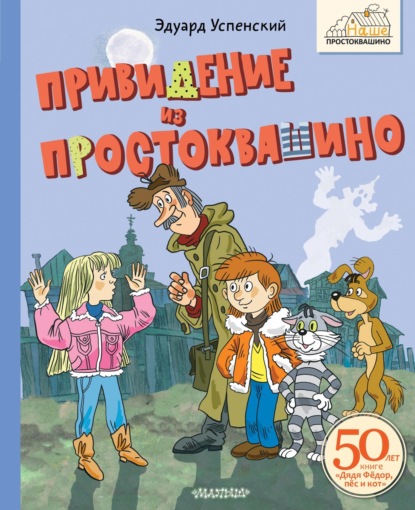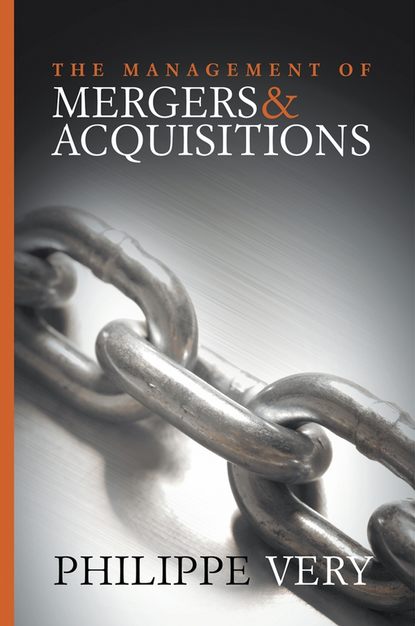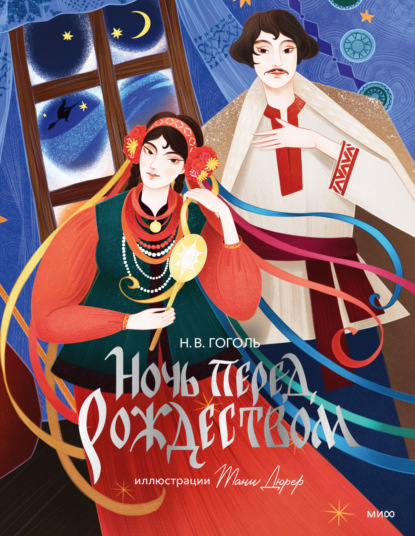- -
- 100%
- +
Вышивание, вязание, шитье – бабушка творила иголкой, спицами, крючком. Не было дома числа вышитым закладкам-конвертам для носовых платков, каждый из которых был тоже обвязан изящным кружевом расшитым газетницам, полотенцам…
Лида потому переняла у бабушки все это, что становилось ей уютно и спокойно, когда она садилась с каким-нибудь рукодельем. Мысли сразу становились ясными, приходили в порядок – легко думалось обо всём. И что бы ни случилось в школе, начиная от двойки по немецкому языку, заканчивая ссорой с соседкой по парте – все теряло свою остроту, отходило в разряд «что ж, бывает».
Ей и сейчас хотелось посидеть спокойно, но не выходило. Даша уже спала, и Лида осталась один на один с этим миром, с ночным садом – чуть трепетали серебряные от лунного света листья.
Но радио оставалось включенным, и вести приходили тревожные, как с фронта. Фронт надвигался. Пули ложились все ближе. Число заболевших росло везде: в мире, в России, в областном центре, в их маленьком городе.
Давно уже отошли в область страшных сказок истории о средневековой чуме, которая выкашивала целые города. И одежда докторов, маски с длинными клювами тем более казались сказочными. И даже грипп-испанка, бушевавший столетие назад тоже казался чем-то нереальным, о чем они прежде знали, но не задумывались
В их детстве – когда Лида ходила в школу, самым страшным, что может случиться, считалась ядерная война. Лида записалась в стрелковый кружок. Собственно, их там ничему не учили. Кружок проходил один раз в неделю, по вторникам. И военрук давал каждому выстрелить в мишень по три раза из мелкокалиберной винтовки. Свою мишень можно было забрать домой. Лиде нравилось «сломать ствол», вставить крохотную металлическую пульку, снова распрямить ствол, прицелиться. У неё был острый глаз и твердая рука – она обычно попадала в «десятку» или «девятку». Один раз ее даже послали на соревнования.
Но на станах в кабинете «начальной военной подготовки» висели плакаты – как защититься от ядерного взрыва. Их учили так обыденно и просто, точно это произойдёт непременно, и надо будет просто выполнить все, что нарисовано на плакатах, написано в книжках – укрыть еду и воду, надеть закрытую одежду, выехать в укрытие. Не случайно рождались и анекдоты и даже песенки
Ядерный грибок висит качается
Под ногами плавится песок
Жаль что радиация кончается,
Я бы побалдел еще часок.
Может, мы обидели кого-то зря,
Сбросили сто лишних мегатонн,
Все, что от Америки останется,
Мы погрузим в голубой вагон.
Скатертью, скатертью хлорциан стелется,
И забирается под противогаз,
Каждому каждому, в лучшее верится,
Медленно падает ядерный фугас.
И это все – на фоне того, что ядерные страны наперебой наращивали свое вооружение, и гордились тем, что овладели новым способом убивать, и теперь могут убивать быстрее и больше – за меньшее время. Правда впрямую это слово «убивать» не говорилось, его заменял изящный термин «уничтожать противника», как будто речь шла о противнике условном – каких-нибудь там компьютерных человечках. Во всяком случае – только о военных. И не бралось в расчет, что костяк армии – это не матерые вояки, прошедшие «Крым и Рим», а по существу мальчишки, еще дети, чьи-то дети…Да и никогда на войне – тем более на такой – не бывает так, чтобы уничтожали только противника. Это неминуемо значило, что погибнут и старики, и женщины, и дети… Как это было в Хиросиме и Нагасаки. Об этих японских городах писали много, ведь атомные бомбы на них сбросил не Советский Союз, а Америка, которую приятно было подкусить.
И в памяти остались люди, превратившиеся в тени, неудержимая волна испепеляющего огня, перед которой не устоять никому. И ядерная зима, за которой не будет весны. А будет холод – не тот, к которому готовятся животные, делая запасы или впадая в спячку… А холод как преддверие всеобщей смерти, когда еще цепляешься за жизнь, но надежды нет, и не только потому, что разорено всё, но и от того, что уже запустил в тебя когти безжалостный зверь – радиация.
В доме, под кухней, был погреб. Туда вела железная лестница. Там пахло сыростью. Стены из крупных камней. Полки, на которых стояли припасы – трёхлитровые, постепенно покрывающиеся пылью банки с вишнёвыми и яблочными компотами, бесчисленное число банок всех размеров с маринованными огурцами и помидорами, кабачковой икрой и аджикой, салатами из баклажанов и сладкого перца, лечо и вареньями, самым ценным из которых было клубничное. Клубники в их пыльном маленьком огородике зрело мало, а покупать – дорого. У дедушки и бабушки не было иных доходов, кроме пенсии, поэтому бережно относились они к каждому рублю.
И бабушка, которая терпеть не могла готовить, всё-таки закатывала на зиму в банках эти соленья и маринады, компоты и соусы. Потому что зима – это кастрюля с горячей рассыпчатой картошкой, к которой открывали баночку «даров лета».
Впрочем, дары это тоже было условно. Скорее, как на фронте – бабушка сражалась на кухне до позднего вечера. Горели все конфорки на плите, бурлила в кастрюлях вода, дымились в операционной чистоте банки. Дедушка был на подхвате – бережно уносил банки, расставлял их с большой комнате на полу, укрывал зимним пальто. Маленькая Лида уже засыпала, а сражение всё продолжалось.
Погреб был не очень большой, узкий, но глубокий. И Лида думала, что это – единственное укрытие, где они могут все разместиться,, если начнется атомная война, и уже прикидывала – как устроить тут спальные места, сколько потребуется воды – и вообще, что нужно будет взять с собой. И смогут ли они потом выбраться, если дом над ними будет разрушен взрывом? Жалко было оставлять беззащитный дом. В лучше случае ударная волны вынесет окна и двери, полы будут засыпаны осколками, вещи, книги посуду – все разметает по дому. А в худшем – все, кроме каменных стен будет испепелено. И все же у них есть своё собственное убежище. И Лида привыкла относиться к погребу с трепетом, как к единственному месту, которое может их спасти. А бабушкины запасы помогут продержаться до того часа, когда таинственный зверь – радиация – уйдет и мир очистится.
Но куда бежать сейчас? Ростов, Волгоград, Нижний Новгород, Новосибирск, Челябинск, Самара – везде уже не хватало коек в больницах, падали от усталости врачи, вернувшись после сотни вызовов.
– А от этого как спасаться? – думала Лида, перекусывая нитку, – Вон, Подмосковье уже прокляло дачников, которые ринулись на природу, чтобы не быть запертыми в столице, в одной из клеток-квартир бесчисленных «человейников». Люди выбирались за город, им казалось, что там, среди цветущих деревьев и зеленой травы, где все такое солнечное, безмятежное – никакая хворь не достанет. Но они везли вирус с собой, и заболевали соседи, и те, с кем поздоровался в магазине или остановился поболтать на улице.
Умершие исчезали – их хоронили в закрытых гробах, на похоронах было немного народа. Перед тем, как начать засыпать могилу землей, могильщики снимали и сбрасывали туда свои антиковидные костюмы, в которых были похожи то ли на космонавтов, то ли на кукол в пластиковой упаковке.
А они с Дашкой второй раз не выдержат этой чумы.
Синее платье было почти готово. Настоящая, дорогая шерсть, кружева… И безупречное чувство вкуса самой портнихи. Лида держала марку – не жалела времени, чтобы переубедить заказчицу в том, что отдельные детали выбранного ей фасона – нелепы, Держала стиль. Сшитые ею вещи выглядели дорого, как от кутюрье…
Лида взглянула на деревянные часы с маятником, висевшие на стене и тихо охнула – половина второго. Поднялась, потянулась долго, с хрустом…Одела платье на плечики, повесила в шкаф.
А когда она пошла умываться – пугливо вступила в черный ночной сад, то увидела, что к ним в гости пришёл ежик. Средних размеров ёжик обнюхивал крыльцо. Лида невольно улыбнулась.
– Яблок еще нет, малыш… Чем же угостить тебя? Постой-ка…
Она вернулась с блюдечком, наполненным молоком. Поставила неподалёку от гостя, и тихо присела на ступеньках крыльца.
Ёж не выказывал особого страха. Он всю зиму прожил тут без людей. Может быть, никого из них и не видел, а может, люди его и не обижали. И он ещё не знал, что их надо бояться. Он залез передними лапками в блюдечко и начал лакать молоко – быстро, захлёбываясь.
– Да не спеши, я ещё принесу, – почти смеялась Лида.
И внезапно и этот сад, и лес за забором, и сама ночь стали казаться ей союзниками – она больше не испытывала страха. Ничто здесь не могло причинить им зла. Вся опасность шла оттуда – где небо светилось красноватым оттенком, где был город.
Внезапно, повинуясь какому-то порыву, Лида прошла туда, где не было в её саду деревьев, легла на траву. Теперь она была один на один с небом, полным звёзд. И это еще больше успокоило ее. Это всё было вечным. Не надо было искать убежища, надеяться выжить. Эти созвездия, что медленно – почти незаметно – плыли над ее головой, останутся и тогда, когда уже не будет никого их тех, кто живет на Земле. Она немного знала созвездий – помнила с детства Большую и Малую медведицы, знала Орион, могла найти Сириус…
Ее жизнь была, конечно, слишком коротка для того, чтобы дождаться полёта даже на Марс или Венеру… Сколько же поколений сменится, прежде, чем люди доберутся до ближайшей звезды? Если перед этим человечество не уничтожит само себя в безумной горячке ядерной или бактериологической войны.
А правда ли, что говорил Маленький Принц – можно услышать как смеются звезды?
Глава 3
Заскрипела калитка. Скоро они узнают её голос, и поймут, что калитка первая встречает гостей, здоровается с ними, и последняя провожает – желает счастливого пути своим скрипучим старческим голос. Но сейчас звуки были какие-то – ритмичные что ли?
– Глянь-ка, что там? – попросила мама, вытирая руки о фартук.
Даша пошла. Но и мама тоже пошла. Так что девочку они увидели одновременно. На калитке, как на качелях, каталась девочка лет восьми. Крепко сбитая, почти полненькая, щекастая, светлые волосы завязаны в два коротких хвостика. Одета девочка была в джинсовый комбинезон и кроссовки. Она отталкивалась – и калитка скользила вперёд, а потом влекла девочку назад – настоящие качели. При этом девочка смотрела на маму и Дашу, улыбаясь, точно не сомневаясь, что пришла к друзьям.
– Боже мой! – ахнула мама, – Ты её сломаешь! Заходи, заходи скорей! Только калитку оставь в покое… Нам же некому её починить, если что.
– Дядя Митрич может, – сказала девочка, охотно впрочем спрыгивая на землю, и шествуя вместе со всеми к дому, – Он тут всё чинит, кому что нужно.
– Может лучше просто не ломать? Ну вот, Дашка, а ты боялась, что у тебя тут не будет общества…Пожалуйста – подружка.
– Она же младше меня, – недовольно сказала Даша.
В школе к ней нередко липла мелюзга – старшие ребята всегда пользуются у малышей почётом. Конечно, трогательно, когда к тебе бегут на переменах, раскинув руки, чтобы обнять – беззаветно бегут, или когда с тобой готовы поделиться последней конфетой, но иногда так хочется покоя и уединения.
– Как тебя зовут? – спросила мама.
– Ульяша. А змеи у вас есть? – деловито спросила девочка.
– Нет… Кажется, нет. А что, тут водятся змеи? – испугалась мама.
– А то! Тётя Люда сказала, что к ней на дачу приползла двухметровая чёрная гадюка. Съела птенцов у сороки. И теперь тётя Люда боится по утрам открывать двери –вдруг гадюка греется на крыльце. И клубнику собирать тоже боится. А дядя Вова говорит, что тётя Люда сама – змея, и приманила гадюку. Родственную душу.
– Хочешь чаю? – спросила мама Ульяшу.
– А что-нибудь сладкое у вас есть? – с надеждой спросила Ульяша.
Мама положила в тостер пару ломтиков булки, и через несколько минут вынула их подрумянившимися. Открыла абрикосовый джем. Ульяша такого ещё не пробовала и оценила с восторгом:
– Ух ты, ещё вкуснее, чем конфеты! А все конфеты я съела ещё позавчера, и бабушка сказала, что в следующий раз купит только с пенсии.
– Ты здесь живёшь только с бабушкой? – поинтересовалась мама.
– Ну да, мама с папой работают, они в выходные приезжают. А ещё тут тётя Люда живёт, дядя Вова…
– Ну да, мы уже поняли. И змеи.
– Тётя Катя, дядя Серёжа, тот самый у которого все просят лестницу, тётя Лена…
– Так, – тихонько сказала мама, – Хорошо мы изолировались.
– А пошли гулять! – Ульяша обратилась к Даше так просто, словно и подумать не могла, что та не согласится, – Чего ты тут сидишь целый день? А я тебе озеро покажу…А замок видела?
– Какой замок? – недоумённо спросила Даша и взглянула на маму – идти ли ей? Ответный взгляд мамы был слегка растерянным:
– Ну вы же не свалитесь в это озеро? Не утонете?
– Там даже лягушки не тонут! – заверила Ульяша, вставая, вернее, вскакивая и вытирая ладошки о комбинезон, – Пошли!
И побежала по дорожке, только сандалики засверкали. Даша пожала плечами и пустилась её догонять.
– Тут много озёр, – поясняла ей Ульяша. Видно ходить спокойно она совсем не могла, и если не бежала, то подпрыгивала, – Только они всё больше как лужи. А вот то, которое я тебе покажу – оно нормальное такое, там даже рыба водится. Дядя Степан туда с удочкой ходил. Но рыба такая мелкая-мелкая, он сказал, что для кошки ловит. А когда он на банку не смотрел, я её в озеро перевернула обратно. Это же рыбы-дети, пусть подрастут.
А там дальше, в лесу – торопилась она, – Говорят, есть ещё озеро, совсем большое, и на нём даже остров. Но меня туда одну не пускают, папа говорит – вместе сходим. А ему всё некогда, когда он приезжает. Бабушка то грядки заставляет копать, то крышу чинить. Я папу пугаю, что тогда одна в лес уйду, и пусть он меня ищет.
Они дошли до конца дачной улочки, тут сразу начинался лес.
– А волки здесь водятся? – спросила Даша, не рассчитывая, впрочем, на внятный ответ.
– А шут его знает, – сказала Ульяша, – У дяди Семёна на днях велосипед пропал. Он его искал-искал. Я его спрашиваю: «Может, волки съели?» Он говорит: «Уля, ты что? Он же железный». А я ему: «Волки такие – они всё кряду едят».
– Так что ж, ты хотела уйти в лес, и попасться им в зубы?
– Так я ж днём, – объяснила Ульяша, – Днём – оно не страшно. А пойдём ночью послушаем – воют волки или нет? Если воют – значит, точно тут водятся.
– Кто бы сомневался, – пробормотала Даша, стараясь не отставать.
Ульяша прямо в лоб взяла небольшую горку. Наверху теснились заросли американского клёна – вездесущего, как баобабы на планете того же Маленького Принца. Ещё тут был ветхий деревянный забор, Ульяша скользнула в дыру, вслед за ней пришлось протискиваться и Даше. Она хотела спросить – далеко ли ещё? Но Ульяша уже стояла наверху и показывала
– Вот оно.
Они были тут вдвоём, и никого, кроме них, в этот час. Озеро изгибалось, уходило куда-то вдаль. Там, где оно заканчивалось, уже густо тянулись дачи, высились ЛЭП, была жизнь. А здесь, у ног девочек, почти круглая чаша. По берегам рос лес – сосны и берёзы. И тишина.
Тут, на этом берегу было даже подобие пляжа – мелководье. А там, с другой стороны, берег обрывался круто, и Даша подумала, что глубина там порядочная.
– Кто там живёт? – невольно спросила Даша.
Ульяша взглянула на неё, и так же деловито, как перед этим перечисляла тетю Люду, дядю Вову и прочих, стала называть:
– Лягушки, Головастики – это ещё маленькие лягушки. Караси и карасята, Комары, заразы. Стрекозы.
– А водяной? А русалки?
– Чего-о?
Даша уселась на траву, обняла колени руками.
– А ты, наверное, ни во что не веришь, да? – спросила она, – Ну, в то, что это всё может быть в жизни…
Ульяша плюхнулась рядом с ней:
– Скажи ещё, в деда Мороза верить, – презрительно сказала она, – Если я знаю, что у нас в школе его играет физрук переодетый. А красная шуба и борода весь год в школьном чулане висят. Мне один раз мама достала билет на ёлку во Дворец культуры. Там такой Дед Мороз был, ну прямо роскошный. У него шуба и шапка в серебре и блёстках. А потом мы ходили хороводом, он меня за руку взял, и я посмотрела вблизи, борода-то у него тоже привязанная. Наверное во Дворце культуры просто богатый дворник. Купил себе такую шубу…
– Я не про то, – задумчиво сказала Даша,– В Деда Мороза я тоже не верю. Но я к тому, что тут, вот в этом лесу, в этом озере, может жить что-то такое, во что люди не верят, что оно существует. А оно вправду живёт.
Ульяша смотрела на неё с жадным любопытством и Даша продолжала:
– Вт в призраков я верю. В то, что в заброшенных и опустевших домах обитают души тех, кто тут жил когда-то. Когда я прихожу в лес, мне кажется, что тут где-то в чаще можно увидеть лешего. И он, если захочет, действительно заведёт и заманит, так что домой и не выберешься. Мало ли людей пропадало в лесах, и никто их не нашёл, и не знал, что с ними случилось.
А озеро, – продолжала она, – Ты ведь не знаешь, какая тут глубина? Никто ведь не мерил… А вдруг там есть омут, и там живёт самый настоящий водяной? Ну, как в фильме «Марья-искусница». Пойдёшь купаться, а тебе по ноги что-то холодное как скользнёт… Это водяной тебе пятку пощекотал. И русалки. У меня дома есть картина, там нарисовано, как они в лунную ночь отдыхают на берегу. Они там совсем как живые. Русалками становятся те девушки, кто топится – от несчастной любви или просто от несчастной жизни. Может и в этих краях такие были. И когда настанет полнолуние, они выйдут на берег, чтобы посмотреть на землю, расчесать свои длинные волосы, а может – и заманить неосторожного путника к себе в омут.
Ульяша сидела, глубоко задумавшись, почёсывая пятку.
– Я приду сюда, когда луна будет круглая, – пообещала она то ли Даше, то ли самой себе. А потом спросила, – Хочешь, я покажу тебе замок, где живёт заколдованный мальчик.
– Шутишь? – недоверчиво спросила Даша, – Какой тут может быть замок? Дачи…
Ульяша вскочила. Ходить она, похоже, совсем не умела, сразу срывалась на бег или прыжки.
– Пошли смотреть!
– Я же тебя не догоню….
По этим извилистым, поросшим травой улочкам, о которых Даша думала, что она никогда их не запомнит, и в одиночку тут же здесь заплутается, Ульяша мчалась как стрела, которую спустили с тетивы. Свернула в какой-то проулок и ткнула пальцем:
– Вот!
И тогда Даша его увидела. Это действительно был замок, но маленький, величиною с двухэтажный особняк. И оттого он казался игрушечным. Но видно владелец очень любил Средневековье, потому что это был не новодел – подобно бесчисленным конструкторам, где из пластиковых деталей можно создать что угодно. Тяжёлый камень какого-то удивительного серебристого оттенка словно пришёл из веков минувших. И башни – Даша насчитала их семь – с кровлей из серебряной черепицы. И фонарь над входом – светил ли он? Стекло тёмное, точно закопчённое. А наверху самой высокой башни – окно с витражом и маленький балкон, на котором, кажется, только ласточкам впору сидеть.
– Видишь? – Ульяша прищурилась.
И никто тут не выращивал картошку с капустой. Несколько голубых елей окружало замок. И ещё тут цвели зелёные – вы подумайте – розы.
– А что за заколдованный мальчик? – теперь Даша верила всему.
– Понимаешь, тут вроде и никто не живёт, кроме него. Он один выходит отсюда каждый день за молоком. А вечером загорается то высокое окошко. Вот ты сказала, и я теперь думаю – может, мальчика заколдовали, и он не может покинуть замок никогда? Представляешь – ни взрослых, никого. Один он. А ещё он такой красивый, что просто – кошмар, караул, катастрофа!
Даша улыбнулась, на этот раз – с ласковой насмешкой. Она решила, что Ульяша в этого мальчика влюблена.
– Раз в день выходит? Ну, тогда мы точно его не дождёмся…
И тут, словно опровергая её уверенные слова, дверь замка открылась, и по ступеням сбежал тот самый мальчик. Было ему лет четырнадцать, а может, пятнадцать. Загар того оттенка, который бывает у светлокожих людей, если они целые месяцы проводят под солнцем. Золотистые волосы отросли и вились живописными кудрями. Разлёт черных бровей, очень светлые серо-голубые глаза, пухлые чётко-очерченные губы… Ульяша, пожалуй, не преувеличила, а даже преуменьшила.
Мальчик был в белой рубашке и шортах, с белым же пластиковым пакетом в руках. Он видно не раз уже видел Ульяшу и хотел кивнуть ей, но тут заметил рядом незнакомое лицо. На Дашу он взглянул заинтересованно и даже чуть помедлил. Словно бы хотел что-то сказать. И против воли Даша почувствовала, что у неё начинает гореть лицо. А значит, она отчаянно краснеет.
– Ты ему понравилась! – Ульяша дернула её за руку.
– Ну вот видишь – выходит же он из своего замка,– сказала Даша, – Значит, совсем не заколдованный, может пойти куда угодно.
– Но он всегда возвращается!
– И ты бы вернулась туда, где живёшь.
Но Ульяшей уже овладела новая мысль:
– А он дверь за собой запер? Может быть, можно тихонько заглянуть внутрь и посмотреть, что там? Мне страшно интересно, я никогда не была в замке.
– Ты с ума сошла? – но Даша увидела, что её маленькая подружка полна решимости, и поняла, что её надо отвлечь, – Слушай, твоя бабушка не волнуется, что ты исчезаешь на целый день?
– Не-а. Она раньше боялась, что я голодная до вечера бегаю. Но я говорю, что меня всегда кто-нибудь кормит. Дядя Саша картошку умеет жарить, у тёти Люды целый обед бывает, а дядя Гриша – он ничего не умеет. Мы с ним чай пьем. С сушками.
– Может быть, пойдём к нам домой? Сушек у нас, кажется, нет. Но на обед мама варит разные вкусные вещи.
– Погоди! – нетерпеливо сказала Ульяша, – Он скоро домой вернётся. Всё равно у твоей мамы борщ не красивее, чем он.
Даша фыркнула. Ей хотелось сказать: «Хорошо, тогда оставайся тут и жди, а я…». Она сама не знала, что её удержало на месте. Она опустилась рядом с Ульяшей на траву.
– И что же, он только молоком питается? Больше ничего не приносит? – с интересом спросила она.
Ульяша только плечом дёрнула, и Даша поняла, что надо перевести разговор на другую тему. Как бы между прочим, она начала рассказывать о вещах, которые обнаружила в старом сарае. И ещё упомянула, что у них в саду есть колодец.
– А оттуда звёзды видно? – живо заинтересовалась Ульяша.
– Откуда я знаю? Там темно, страшно…
– Так вот потому и видно! Здесь – день, а там – ночь. И конечно, на небе есть звёзды, и луна даже. Давай завтра слазаем, посмотрим…
– Э, нет, я пас, – засмеялась Даша, – Если ты хочешь звёзды, я тебе лучше телескоп покажу.
– А это чего такое? – телескопы в сферу Ульяшиных интересов явно до сих пор не входили.
«Это» было самой дорогой вещью для Даши. Есть такие вещи, за которые отдашь все остальные – не глядя. И если нужно будет уходить из дома, взяв что-то одно – не задумаешься, рука сама потянется к ним. Вещи, в которых живёт Душа.
Телескоп Даше подарила мама. Вернее, ей бы это в голову не пришло, но её сумасшедший знакомый (а у мамы все друзья были немножко сумасшедшие) купил себе новый – дорогой, тот в который можно наблюдать дальний космос.
– А с этого я начинал, – сказал он маме, протягивая коробку, – Возьми для Дашки.
Даша в тот день не могла дождаться вечера. Ей казалось, что взглянув в этот лёгкий, почти детский телескоп, она увидит всю ту звёздную роскошь, которую обещал Хаббл, рассказы Брэдбери и Ефремова. Она не знала, что даже с этим простейшим устройством сначала ей, а потом и маме тоже – придётся долго мучиться. Сперва пытаясь навести его на небо – в неумелых руках телескоп превратился, скорее, в подзорную трубу и показывал окрестные дома. А потом стараясь тщетно увидеть хоть что-нибудь – мешала городская засветка.
– Пойдём в тот детский сад, – предложила мама немного смущённо.
Смущённо – потому что какая мать туда поведёт ребенка среди ночи? Детским садом это одноэтажное здание было давно, ещё в советские годы. Потом малышей – в трудные девяностые – рождалось всё меньше, и садик прикрыли. Сделали там кожный диспансер, но и это не прижилось. И теперь садик пустовал, ожидая новых хозяев. Окружала его довольно большая территория, и всё тут одичало. Ещё видно было, что прежде за клумбами заботливо ухаживали, а в саду до сих пор росли вишни и яблони. Но уже густо забито всё это было сорняками, и только ночной сторож в опустевшем здании следил, чтобы тут не безобразничала молодежь.
– Пойдём,– откликнулась Даша.
Это путешествие запомнилось ей потом, как какой-то сказочный сон. Никого не было – пустынные улицы, переулки, и сад – серебряные листья в свете луны. Ночью всё становится живым, одухотворённым, один на один с небом – и эта ива, и щебень на дорожке, отблёскивающий вкрапленными кристаллами кварца, и даже выщербленные ступени – помнившие столько шагов…
Да, здесь не было засветки! Только звезды над головой. И когда установили телескоп на штативе, и навели его на резкость – они проступили, как магический шифр, невидимые ранее. А потом Даша чуть повернула прибор, и небо осветилось – это было предчувствие… Еще левее… И выплыла Луна – впервые Даша видела её такой. Не той луной – полной, или месяцем, который почти каждый вечер отмечаешь взглядом. И тонкому месяцу, новорожденному – согласно примете – надо показать серебряную денежку. Чтобы месяц рос – и денег у тебя в кошельке множилось. Нет – теперь перед Дашей был каменный шар, огромный, непостижимым образом (сейчас начисто забылись все физические законы) висевший в пустоте. Наглядность всех кратеров – о которых прежде только читала! Моря и океаны – и каменная пустыня, и Бог весть, ступала ли туда действительно нога человека. Сейчас не верилось в это.