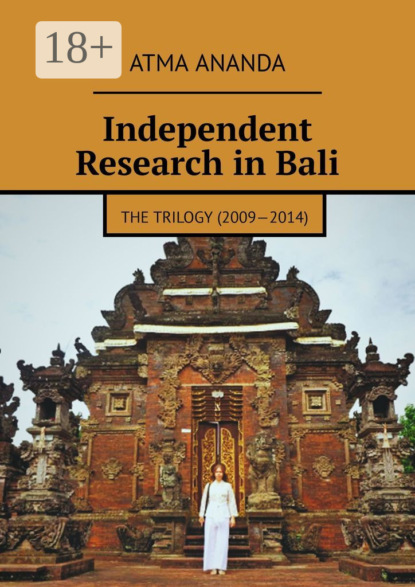Черная соль Карпат

- -
- 100%
- +

Пролог
Соль не пахнет.
Она просто остаётся – на коже, на ткани, в щелях между словами. Её нельзя услышать, но её можно чувствовать: сухой скрип под ногтем, белая пыль на чёрной подошве, крошка на губах, когда ты уверен, что ничего не ел.
Я узнала это ещё до того, как увидела долину.
В самолёте было слишком светло, как в стерильной комнате: ровные лампы, одинаковые кресла, лица людей, которые ничего обо мне не знают и не хотят знать. Нормальный мир. Мир, где ты можешь быть незаметной – и это не наказание, а право.
Я держала на коленях конверт бабушки. Он был плотный, старый, и от него пахло не бумагой – временем. Такие конверты не передают «просто так». Их передают, как передают чужую вину или чужой долг: в руки, без свидетелей.
Бабушка умерла молча.
То есть говорила она много – про погоду, про хлеб, про то, что нельзя оставлять нож на столе лезвием вверх. Но когда дело доходило до прошлого, она становилась ровной, как закрытая дверь. И чем больше я взрослела, тем яснее понимала: это не забывчивость. Это дисциплина.
В её последнюю неделю я пришла к ней ночью – не потому, что так принято, а потому, что днём я боялась увидеть конец при свете. Ночь делает боль честнее: в темноте люди не держат лицо, они держат только дыхание.
Глава 1. Письмо бабушки
Письмо пришло не по почте – в этом Ана была уверена, хотя конверт выглядел так, будто его действительно несли через полмира в потной ладони, сжимали в кармане, роняли на стол, снова поднимали. Бумага была плотная, старая, желтоватая, с хрупким надрывом по краю, как у документов из архивных коробок. И от него пахло не пылью.
Пахло солью.
Ана несколько раз подносила конверт к лицу, отводила и снова возвращала – не из суеверия, а как специалист, привыкший доверять рукам больше, чем словам. Соль – это не просто запах, это ощущение, как будто воздух становится холоднее и сухо “щёлкает” в носу. Она провела большим пальцем по клапану и почувствовала шершавую крошку на коже.
Кристаллик.
В квартире было рано и темно. Москва ещё не проснулась – тот редкий промежуток, когда шум больших дорог кажется чем-то чужим и далёким, как будто кто-то выключил город, оставив только его силуэт. На кухне гудел холодильник, а на столе, рядом с ноутбуком и чашкой, которую Ана так и не домыла вчера, лежал второй “конверт” – распечатка письма из фонда.
Грант.
Вчера вечером она прочла его раз двадцать. Сначала – как читает человек, которому давно не везло: быстро, не веря глазам, цепляясь за суммы и сроки, как за поручни в подъезде. Потом – как читает реставратор: медленно, выхватывая конкретику. Объект. Дата постройки. Состояние росписей. Ориентировочный бюджет на леса и консервацию. Координаты. Контактное лицо на месте – священник.
Румыния.
Фонд предлагал работу, о которой мечтают и которую боятся одновременно. Не музейный зал под лампами, не грантовую “бумажную” реставрацию, где половина времени уходит на отчёты. Настоящую – где камень трескается под рукой, где известь сыплется на волосы, где фреска проявляется из темноты, как глаз из сна.
Ана должна была радоваться. И она радовалась.
Но радость была странная: тонкая, натянутая, как нитка, на которую кто-то повесил слишком тяжёлое.
Письмо бабушки лежало рядом, и оно было не из фонда.
У Аны не было привычки хранить старые вещи в квартире – привычка профессиональная, почти болезненная. Любой предмет “с прошлым” она мысленно оценивала на риск: плесень, насекомые, химия. Но этот конверт был чистым, сухим, и всё равно от него хотелось вымыть руки.
Она оглянулась на подоконник, где стояли два горшка с выжившей мятой – единственная попытка иметь что-то живое рядом с книгами, перчатками, коробками. Потом на шкаф, где лежали папки с её проектами: руины усадеб, иконостасы, куски стен, спасённые из прихожих храмов, где люди привыкли проходить мимо как мимо мебели.
Она была хороша в своей работе. Её уважали. Ей доверяли. Ей… редко писали письма от руки.
Тем более – письма от бабушки, которая умерла два года назад.
Ана взяла конверт обеими руками – как берут хрупкое стекло. Бумага была чуть влажнее внутри, чем снаружи, словно впитала воздух, который не должен был туда попасть. На обороте, над местом для адреса, дрогнувшей линией было выведено её имя:
“Ане.”
Без фамилии. Без города. И всё равно письмо дошло.
Она усмехнулась – коротко, без радости. Старые привычки. Бабушка всегда говорила, что “бумага знает дорогу лучше людей”.
Ана разорвала край осторожно, не ножом – пальцами, чтобы не порезать лист. Пальцы неприятно скрипнули о соль, как будто бумага была припудрена мелкой крошкой.
Внутри – один лист.
Почерк бабушки был узнаваем: наклон вправо, будто ей всё время хотелось убежать вперёд собственной фразы; буквы “д” и “л” вытянуты, а “т” с редкой, неуверенной перекладиной. В некоторых местах чернила расплылись – от влаги или от времени. Внизу – пятно, похожее на след чашки. Или на отпечаток пальца.
Ана прочла первую строку, и внутри что-то сдвинулось, как дверь в старом доме, которую давно не открывали.
“Если ты читаешь это – значит, ты уже услышала зов.”
Зов. Вот слово, от которого у Аны стало холодно в животе. Зов – это не “приглашение”, не “предложение”, не “работа”. Зов – это когда тебя зовут туда, где тебя не ждут.
Она продолжила.
“Не верь людям, которые улыбаются слишком ровно. Они прячут зубы.”
Ана сглотнула, почувствовав солёный привкус. Это было абсурдно: она не ела солёного, не пила ничего, кроме вчерашнего кофе. Но язык будто вспомнил соль сам.
“Если тебе скажут, что там нет ничего страшного – знай: страшное там не любит, когда его называют.”
Она прочла это дважды. В обычной ситуации Ана бы отнесла такой текст к старческим страхам и стилизации. Но бабушка не была человеком, который пугал ради эффекта. Она была молчалива. Практична. Её страхи всегда были экономными – без лишних слов.
“Ты думаешь, что едешь работать. Но ты едешь закрывать долг.”
Долг. Ана нахмурилась. Какая ерунда. Она никому ничего не должна, кроме себя – так она обычно думала, когда отказывала людям, которые хотели “немножко бесплатно” и “по знакомству”.
А теперь – долг.
“Не открывай соль.”
Ана замерла. Рука с листом застыла на полпути, как будто слова могли обжечь.
“Если увидишь соль на камне – не трогай. Если почувствуешь соль во рту – не разговаривай. Если найдёшь соль под ногтями – не вспоминай, что было ночью.”
У неё почему-то сразу возникло раздражение. Не страх – раздражение. Такое бывает, когда пугают слишком точно, попадая не в мистику, а в физиологию, в мелкие повседневные вещи, в то, что трудно объяснить.
Она опустила взгляд на свои руки.
Под ногтями действительно была белая крошка. Совсем немного – как после работы с известью. Но вчера она не работала. Вчера был офисный день: документы, заявка, переписка, смета. Никакой извести.
Ана провела ногтем по ногтю, счищая крупинку, и та растворилась, оставив сухое ощущение на подушечке пальца.
Письмо продолжалось.
“У тебя будет мужчина, который скажет, что защитит тебя. Он будет прав. И от этого будет страшнее.”
Ана почувствовала, как её лицо становится горячим, будто кто-то застал её за чем-то личным. В комнате никого не было, а стыд возник – такой же внезапный, как солёный привкус.
“Не путай защиту с правом владеть.”
Лист шуршал в её руках, слишком громко для утренней тишины. Ана прислушалась: в подъезде хлопнула дверь. Кто-то торопливо прошёл по лестничной клетке. Обычная жизнь. Никаких знаков.
“И будет другой, который будет слушать. Но слушание – тоже власть. Помни: тот, кто принимает твою исповедь, забирает часть твоего голоса.”
Ана опустила лист на стол и долго смотрела на него, не моргая. Сердце билось ровно, но как-то “высоко”, где-то в горле. Её мозг пытался сделать то, что делал всегда: найти рациональное объяснение.
Письмо мог написать кто угодно. Кто-то мог подделать почерк. Конверт мог быть частью “психологического” проекта фонда – заманчиво, конечно, но слишком дешево для серьёзных людей. Или это могла быть чья-то глупая шутка.
Но почему соль?
Ана подняла конверт, вытряхнула его над белой салфеткой. Посыпались мелкие кристаллики – совсем немного, но достаточно, чтобы заметить. Они падали на ткань тихо, как сухой снег.
Ана смотрела на них и вдруг отчётливо вспомнила: бабушка когда-то рассказывала ей про “солёную долину”. Тогда Ана была подростком и слушала вполуха, потому что бабушка редко говорила о прошлом, а если говорила – то без деталей, как будто вырезала из истории куски и оставляла только скелет.
“Там камни плачут солью,” – сказала тогда бабушка. – “И если ты там родился, ты всю жизнь будешь слышать этот плач.”
Ана никогда не верила в такие фразы. Она верила в известь, в грунт, в краски, в влажность, в грибок. В то, что можно измерить и вывести. И всё равно эта фраза сейчас всплыла, как будто в комнате не воздух, а вода, и память поднялась с дна сама.
Она снова взяла лист, дочитала до конца.
“Если решишь ехать – не останавливайся по дороге на ночь у чужих. И не соглашайся на помощь сразу. Пусть она будет заслужена, а не подарена.”
Последняя строка была короткой.
“Прости.”
Под словом “прости” стоял не подпись, а маленький знак – будто бабушка попробовала нарисовать что-то и передумала. Похожий на неровный крестик. Или на букву, которую Ана не узнала.
Она долго сидела, сжимая бумагу, пока пальцы не начали ныть. Потом выдохнула и отодвинула письмо, как отодвигают острый предмет.
На экране ноутбука мигало непрочитанное письмо из фонда. Внизу – кнопка “подтвердить участие”.
Ана смотрела на неё, а в голове всё время возвращалась одна и та же мысль: если письмо – подделка, то она уже попалась. Если письмо – настоящее… то она в любом случае уже попалась.
Она встала, подошла к раковине, включила воду и подставила руки. Вода была тёплая, но ощущение соли не уходило – будто она не на коже, а внутри.
Когда Ана вернулась к столу, она приняла решение не потому, что была смелой. И не потому, что не верила письму. А потому что не могла вынести неизвестность.
Она нажала “подтвердить участие”.
Потом сложила бабушкин лист вчетверо, аккуратно, как складывают иконостасную ткань или старую карту, и положила обратно в конверт. Соль на салфетке осталась. Ана посмотрела на неё, подумала, не выбросить ли, и вдруг поймала себя на том, что не может.
Соль казалась доказательством.
И угрозой.
Перед выходом она достала из ящика латексные перчатки, те, что обычно брала на объект, и на секунду замерла, держа их в руке. Абсурд. Смешно. Но перчатки всё равно оказались в сумке – рядом с паспортом, зарядкой и блокнотом.
Когда она закрыла дверь, в квартире стало тихо, как в пустой церкви.
Ана спустилась по лестнице и вышла на улицу. Холод ударил в лицо, и на секунду ей показалось, что воздух тоже солёный – будто город вдруг стал морем, которого здесь быть не могло.
Она пошла к метро, не оглядываясь.
В кармане пальто лежал конверт, и каждый её шаг отдавался в нём шорохом бумаги о кристаллы – как будто письмо дышало.
Глава 2. Перевал
Самолёт приземлился так мягко, что Ана не сразу поняла: звук шасси – это уже не её внутренний гул, а реальность. В Клуж-Напоке воздух пах мокрым асфальтом и кофе, а на вывесках гласные были с хвостиками, словно слова цеплялись за пространство и не хотели падать.
Она держалась за простую логику: паспорт – багаж – аренда машины – дорога. Никаких “знаков”. Никакой мистики. Только координаты и сроки.
По документам объектом была старая церковь в карпатской долине, и на месте её должен был встретить священник.
Навигатор уверенно рисовал тонкую синюю линию, уходящую из города в горы, и Ана поймала себя на странной мысли: линия слишком похожа на шов, которым зашивают рану. Она встряхнула головой, будто могла вытряхнуть образ, и выехала на трассу.
Сначала всё было почти приятно. Румынская осень – спокойная, без московской злости. Пейзаж менялся постепенно: поля, низкие дома, редкие церкви с куполами, которые казались темнее неба. В какой-то деревушке она остановилась у магазина купить воды, и продавщица сказала что-то на румынском – мягко и быстро, как песня. Ана улыбнулась, кивнула, ушла, чувствуя себя человеком без языка, но с целью.
Через час начались холмы. Ещё через сорок минут – лес, сдержанный и строгий: тёмные стволы, плотная крона, сырость. Дорога сужалась, повороты становились резче, а радиостанции – тише, как будто музыка не имела права заходить так далеко.
Первые кресты на обочине Ана заметила не сразу. Сначала показалось, что это просто дорожные столбики. Потом глаз выцепил форму – деревянная перекладина, иногда обмотанная лентой, иногда с выцветшей фотографией, иногда безымянная. Кресты стояли как люди: с паузами, с расстоянием, будто между ними была договорённость молчать.
На одном из них висела маленькая жестяная пластинка. От ветра она едва слышно постукивала о дерево, и этот звук почему-то показался Ане знакомым – как если бы она слышала его в детстве, не понимая, что именно это.
Она прибавила громкость навигатора.
Слова “через двести метров – направо” прозвучали слишком громко в салоне. Ана поморщилась, убавила, и в этот момент увидела туман.
Он не “пришёл” – он был уже там, впереди, между деревьями, лежал на дороге ровным слоем, как дым, который не поднимается вверх. Машина вошла в него, и мир сжался до ближнего света фар, до белесой стены, в которой всё теряло края.
Ана откинула плечи назад, заставила себя дышать ровно. Туман – это вода в воздухе. Видимость – это физика. Страх – это гормоны.
Но во рту появился солёный привкус.
Она провела языком по нёбу, как будто могла стереть это ощущение, и тут же вспомнила бабушкину строчку: “Если почувствуешь соль во рту – не разговаривай”. Вспомнила – и разозлилась на себя. Ну конечно. Сейчас мозг будет подсовывать фразы, потому что ему нужен смысл. Потому что так проще, чем принять случайность.
Телефон в кармане вибрировал. На экране высветилось письмо – короткое, без приветствия, на английском: “Confirm arrival. I can arrange car/driver if needed. D.” И чуть ниже – ещё одно уведомление, уже от фонда, с контактами отца Иоана и адресом, который навигатор почему-то не находил по названию.
“D.”
Ана не ответила. Она сказала себе, что позже. Сначала – перевал.
Туман уплотнялся. Фары выхватывали мокрую разметку, которая на мгновение становилась настоящей, а потом снова исчезала. Дорога пошла вверх, и воздух в салоне будто стал холоднее, хотя печка работала.
На очередном повороте Ана увидела на обочине маленькую часовню – низкую, каменную, с тёмной дверцей. Перед ней горела свеча в стеклянном стакане. Пламя дрожало, но не гасло, хотя ветра в тумане было не видно.
Ана сбросила скорость.
И в этот момент случилось то, что она потом пыталась назвать “провалом”, хотя слово было слишком мягким. Не обморок. Не сон. Скорее – пропуск кадра, как в старой плёнке, когда изображение прыгает, и ты не можешь доказать, что оно прыгнуло.
Она моргнула – и вдруг часовня оказалась позади, а машина стояла у края дороги, почти на гравии. Навигатор показывал, что она отклонилась от маршрута на двести метров, и тут же возвращалась обратно, как будто кто-то аккуратно подвёл её к обочине и остановил.
Руки у Аны были на руле. Ноги – на педалях. Сердце – билось ровно, но слишком быстро.
Она посмотрела на часы.
Минус одиннадцать минут.
Одиннадцать минут – это не “потеряла взгляд”. Это не “задумалась”. Это кусок времени, который кто-то вырезал, оставив ровные края.
Ана вдохнула. Выдохнула. Снова вдохнула. Проверила ремень безопасности – застёгнут. Проверила дверь – закрыта. Вышла из машины.
Туман был густой, влажный, и сразу прилип к волосам. У обочины стоял крест – высокий, темный, с двумя перекладинами. Под ним – белая полоска на камне, как будто кто-то посыпал землю солью и не убрал. Ана присела, не касаясь руками, и увидела, что это действительно кристаллы: крупные, будто кухонные, но слишком чистые для дороги.
Она выпрямилась и поняла, что не слышит ничего, кроме собственного дыхания. Ни птиц. Ни машин. Ни ветра.
Только далёкий, очень тонкий звук, похожий на металлическую ноту. Как будто где-то в тумане кто-то ударил по пустой трубе.
Ана вернулась в салон и закрыла дверь так быстро, словно могла отрезать себя от леса одним щелчком замка. Пальцы дрожали. Не сильно – достаточно, чтобы это было заметно ей самой.
Она заставила себя действовать привычно: сфокусироваться на задаче. Включить аварийку – выключить. Проверить бензин. Посмотреть сообщение от “D.” ещё раз. Не отвечать. Не брать помощь “сразу”, как в письме. Смешно. И всё же она не ответила.
Когда она тронулась, туман начал редеть так внезапно, будто кто-то поднял занавес. Впереди показалась лента дороги, дальше – тёмная масса леса, затем – просвет между горами. Перевал уходил вниз, и внизу лежала долина: низкие крыши, тонкий дым, и белёсые пятна на склонах, похожие на следы высохшей воды.
И снова – соль во рту, тихая, настойчивая.
На спуске у Аны зазвонил телефон. Номер был неизвестный, но код выглядел местным.
Она посмотрела на экран слишком долго, и звук показался ей неприятно интимным – будто кто-то звонил не в телефон, а прямо в её голову.
Ана сбросила вызов.
Сразу пришло сообщение, короткое: “You’re close. Don’t stop in the valley before you see me.”
Она уставилась на экран, потом на дорогу, потом снова на экран. Внутри поднялось знакомое чувство – смесь раздражения и стыда, как в детстве, когда взрослый говорил “делай так”, а ты ещё не успел понять, почему уже должен слушаться.
“Не останавливайся, пока не увидишь меня.”
Это было не предложение. Это было присвоение.
Ана положила телефон экраном вниз. Машина катилось вниз к долине, и чем ближе становились крыши, тем сильнее ей казалось, что она въезжает не в место, а в замкнутую систему – туда, где всё уже распределено: кто будет помогать, кто будет молчать, кто будет виноват.
На границе деревни стоял щит с названием, которое навигатор так и не произнёс вслух: буквы были старые, местами стёртые, как на надгробиях. Под щитом – тонкая белая линия, проведённая по камню. Соль.
Ана не остановилась.
Она проехала дальше – к пансиону, к церкви, к тому, что фонд назвал “объектом”, а бабушка – долгом.
И впервые за день она поняла, что её страх – не про туман и не про лес.
Страх был про людей, которые уже решили, кем она здесь станет.
Глава 3. Пансион нотариуса
Пансион нашёлся не по навигатору – по ощущению, что дальше дорога уже не принадлежит ей. Ана увидела дом раньше вывески: тяжёлый, тёмный, будто его строили не для жизни, а для ожидания. Он стоял чуть в стороне от улицы, отделённый от дороги узкой полосой сада, где деревья росли слишком близко друг к другу, как люди, которым холодно.
У ворот висела табличка, на которой можно было прочесть только половину букв. Остальное стёрлось, как стёрлись имена на старых надгробиях.
Ана поставила машину так, чтобы сразу иметь возможность развернуться. Не потому что собиралась уехать – потому что ей так было легче дышать: когда есть “выход”.
Двор был пустой. Слишком тихий для деревни, в которой должны жить люди. Только где-то в глубине, за домом, стукнуло железо – один раз, сухо, как щелчок замка. Ана подняла голову, но увидела лишь мокрые ветки и закрытые окна.
Она взяла чемодан, рюкзак и подошла к двери. Дверная ручка была холодной, с едва заметным налётом – не ржавчина, не грязь, а тонкая белёсая плёнка, как на камнях в долине. Она заставила себя не думать, что это может быть соль. Вымыла бы руки – и всё.
Дверь открылась почти сразу, словно её ждали.
На пороге стояла женщина лет шестидесяти – сухая, прямая, с волосами, собранными так туго, будто всё лишнее в этой жизни нужно держать в узде. На ней было чёрное платье и серый фартук, слишком аккуратный для сельского дома. Глаза светлые, внимательные – не враждебные, но и не тёплые.
– Ана? – спросила она на английском, произнеся имя так, будто это слово из местного языка.
Ана кивнула.
– Я… да. Я писала. Мне нужно на несколько недель, возможно дольше. Я работаю по проекту реставрации.
Женщина не улыбнулась. Слегка отступила в сторону, пропуская.
– Комната готова. Вы устали.
Это прозвучало не как забота, а как констатация факта, не требующего обсуждения. Ана шагнула внутрь – и сразу почувствовала запах: старое дерево, влажный камень и что-то едва уловимое, терпкое, как в церковной лавке. Ладан? Или просто память так подсовывала знакомые ассоциации.
Холл был узкий, с высоким потолком. На стенах висели портреты – много. Не семейные фотографии, не милые рамки, а именно портреты: масло, темные фоны, строгие лица. Некоторые – мужчины в костюмах, некоторые – женщины в тяжёлых платьях. Все смотрели прямо, будто ждали, что проходящий мимо споткнётся о их взгляд.
Ана поймала себя на желании опустить глаза, как в музее, где знаешь: смотреть долго нельзя, потому что тебя “заметят”.
– Это… семья? – спросила она, чтобы нарушить тишину.
Женщина чуть наклонила голову, словно прислушиваясь к вопросу, а потом ответила:
– Бывшие хозяева. Нотариус. Его жена. Их друзья. Деревня здесь не любит забывать.
“Не любит забывать” – фраза была сказана спокойно, но у Аны по спине прошёл холодок. Деревня не любит забывать. А кто любит – того заставляют помнить?
Женщина повела её по коридору. Половицы под ногами не скрипели – они как будто вздыхали, мягко и тяжело. На лестнице было темнее, чем должно быть днём: окна узкие, занавески плотные, свет будто задерживался и не хотел подниматься наверх.
– Как вас зовут? – спросила Ана.
– Госпожа Кристя, – ответила женщина, и после короткой паузы добавила: – Можно просто Кристя.
Это “можно” звучало так, будто “нельзя” было бы естественнее.
Комната оказалась на втором этаже, в конце коридора. Дверь открылась с лёгким сопротивлением, словно её давно не открывали полностью. Внутри было чисто: застеленная кровать, маленький стол, лампа с тканевым абажуром, шкаф. На подоконнике – пустая ваза. Ни одного лишнего предмета, который говорил бы: “тут живут”. Это была не комната для отдыха – это была комната для пребывания.
Ана поставила чемодан и огляделась. На стене – зеркало в потемневшей раме. Под зеркалом – узкий комод, на котором лежал ключ с тяжёлым брелоком.
Кристя положила на стол лист бумаги.
– Правила дома, – сказала она. – Тишина после десяти. Дверь на ночь закрывать. В подвал не ходить.
– Почему?
– Там сырость. И… старые вещи.
Она произнесла “старые вещи” с таким выражением, будто это объясняет всё. Ана кивнула, хотя внутри поднялось раздражение. Она приехала работать с “старыми вещами”. Её работа – это сырость, трещины и плесень. Её не напугаешь подвалом.
Но почему-то подвал не казался бытовой деталью. Он казался условием.
Кристя продолжила:
– Завтрак в семь. Если вы не спите.
– Я сплю, – автоматически ответила Ана и тут же подумала о провале на перевале, о тех вырезанных минутах, о соли под языком.
Женщина посмотрела на неё чуть дольше, чем нужно.
– Хорошо, – сказала она.
И это “хорошо” снова прозвучало как отметка.
Когда Кристя вышла, Ана осталась одна. Тишина в комнате была почти плотной, как ткань. Ана достала ноутбук, включила – просто чтобы услышать знакомый звук. Экран мигнул, появилось уведомление о слабом сигнале. Интернет был, но как будто нехотя.
Она открыла письмо от фонда и перечитала контакты. Имя священника, номер. Адрес церкви. Её рука зависла над телефоном.
Не сейчас.
Она достала бабушкин конверт, положила на стол рядом с ключом. Соль внутри не рассыпалась – как будто она уже отдала всё, что хотела отдать, и теперь просто лежала, тяжёлая в своём молчании.
Ана пошла в ванную – маленькую, холодную, с кафелем, который местами потемнел от времени. Включила воду и долго мыла руки, пока кожа не стала красной. Но ощущение соли не исчезло полностью – она будто была не на коже, а в голове.
Вернувшись, Ана заметила, что зеркало в комнате слегка мутное, словно его протёрли влажной тряпкой и не вытерли насухо. Она подошла ближе. На поверхности не было следов пальцев. Только тонкая дымка – и в ней, если прищуриться, можно было увидеть своё лицо чуть искажённым, будто рядом есть ещё одно, сдвинутое на миллиметр.