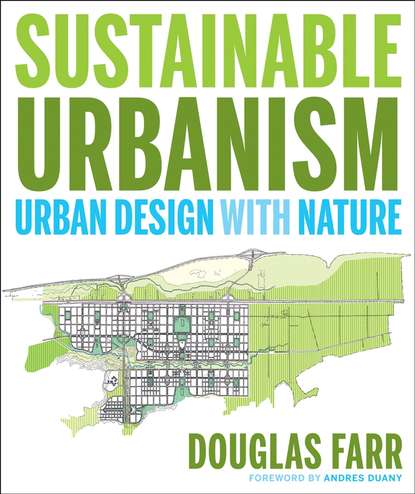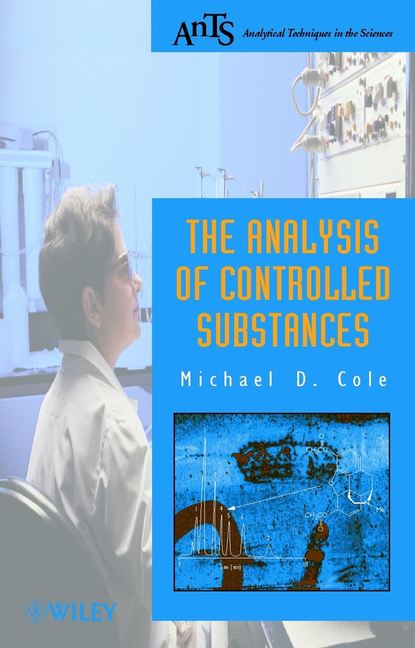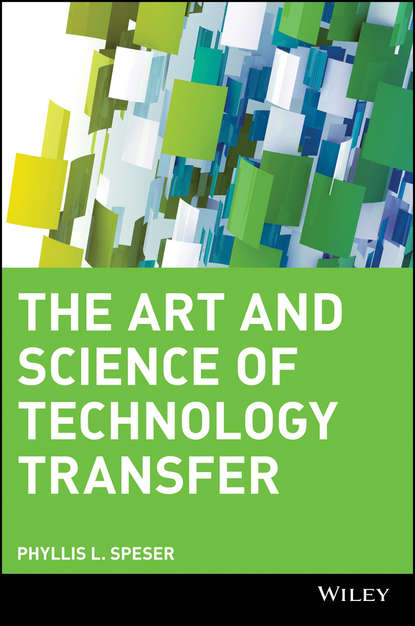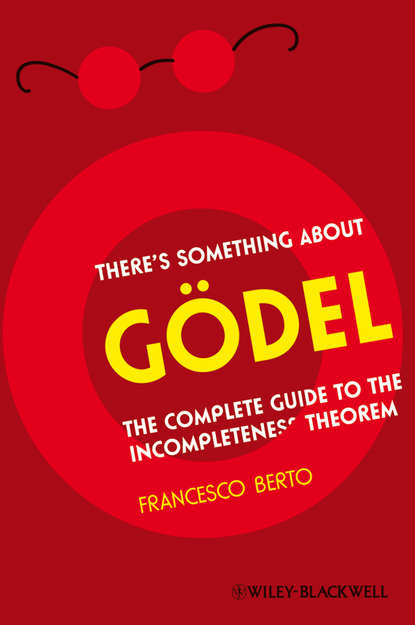Приговор на двоих

- -
- 100%
- +

ГЛАВА 1. ПРОТОКОЛ
Москва – это не город, а состояние. Состояние вечной зимы, что прячется в самой его сути, проступая на поверхность даже в августовский зной. Она не пахнет снегом, которого нет, она пахнет ледяным металлом. Металлом турникетов, сдавливающим пространство на входах в метро, офисы, судьбы. Холодной сталью небоскрёбов, что рассекают небо ровными, бездушными гранями. Стеклом витрин и окон, за которыми кипит жизнь, но доносится лишь приглушённый, безжизненный гул. И бумагой. Всегда бумагой. Белой, хрустящей, пахнущей пылью архивов и типографской краской. Бумагой, которая не информирует, а решает. Решает, кто останется человеком, а кто превратится в дело. В папку. В аккуратную, неоспоримую строчку в протоколе, за которой стоит тишина.
Лера Жданова была следователем по особо важным делам. Это звучало как титул, как признание заслуг, ровно до того момента, пока ты не понимал подлинную суть этих слов. «Особо важные» – не те, где больше крови или громче имя. Это те, где важнее не докопаться до истины, а аккуратно, по всем правилам, её похоронить. Где правда – это не факт, а договорённость, закреплённая на том самом, пахнущем бумагой бланке.
У неё были руки человека, который физически не способен «не трогать». Длинные, нервные пальцы, вечно теребящие край папки, ручку, собственный кадык – как будто через прикосновение к миру она проверяла его на прочность, на реальность. Даже когда всё вокруг, весь опыт, вся система кричали: «Отойди. Не трогай. Это правильно». Правильно – значит безопасно. Но её пальцы всё равно тянулись к краешку запретного, срывая невидимые печати.
Она стояла у окна своего кабинета на седьмом этаже ведомственного здания, прижав ладонь к холодному стеклу. Внизу, во дворе, снег, выпавший ночью, уже превращался в серую, утрамбованную колёсами служебных машин кашу. Люди в тёмных пальто спешили к подъездам, растворяясь в них, как капли чёрной воды в губке. С каждым таким исчезновением в её голове автоматически щёлкало: ещё одна папка легла на стол. Ещё одно дело. Ещё одна жизнь, свёрнутая в формат А4.
Лера давно для себя всё решила: в определённый момент твоя работа перестаёт быть просто службой. Она становится системой кровообращения целого мира. Мира серых папок и голых фактов. Ты либо становишься частью этого потока – безликой, функциональной клеткой, – либо система выдавливает тебя наружу, в небытие, в ту самую грязную кашу под окном. Третьего не дано. Ей часто казалось, что она уже полвека балансирует на этой грани, чувствуя, как холод системы медленно ползёт по венам.
На столе, покрытом слоем таких же папок, тихо, но настойчиво завибрировал телефон. На экране – незнакомый номер. Без имени. Просто цифры, выстроенные в безликую последовательность.
Лера ненавидела неизвестные номера. Они никогда не несли добрых вестей. Они приносили в твой налаженный, хоть и циничный мир что-то чужеродное. Что-то, что потом, сколько его ни пытайся вычеркнуть или заархивировать, продолжает жить в памяти жгучим, нестираемым пятном.
Она медленно подошла к столу, дала телефону прозвонить ещё два раза, будто оттягивая неизбежное, и поднесла его к уху.
– Жданова, – голос прозвучал сухо, профессионально-безэмоционально, отработанным щитом.
В трубке воцарилась пауза на три такта пульса – расчётливая, театральная. Потом зазвучал голос. Мужской. Низкий, бархатный, лишённый всякой спешки. Так говорят люди, для которых время – не ограничитель, а инструмент. Как будто все часы в городе тикали в ритм его дыханию.
– Лера. Вижу, вы всё ещё верите, что контролируете происходящее в этом городе.
Она физически ощутила, как что-то сжимается у неё внутри, ниже горла. Не страх. Скорее, яростное, животное неприятие такого тона. Такого вторжения.
– Кто вы? – спросила она, и её собственный голос показался ей чужим, слишком резким на фоне его спокойствия.
– Вам не понравится ответ, – голос прозвучал почти с сочувствием, отчего стало только страшнее. – Но вы и так его знаете. Вы уже читали моё имя. Не раз. В тех самых делах, где строки аккуратны, а выводы… предопределены. Вы просто привыкли думать, что это имя – просто строчка. Что оно не может обрести плоть, дозвониться до вас и заговорить.
Инстинктивно, ещё до того, как мозг отдал команду, её взгляд рванулся к монитору компьютера. На экране было открыто дело – свежее, ещё пахнущее электронным свежеотпечатанным фамильным деревом. В центре – фотография. Не грубая, не криминальная, а деловая, с глянца. Под ней – фамилия. Та самая, которая в коридорах судов и в кулуарах её же управления произносилась шёпотом, с придыханием, с заменой местоимения «он» на безличное «это». «Это» решило. «Это» подключилось. «Это» лучше не трогать.
– Соколов, – выдохнула она, и это одно слово прозвучало не как имя, а как диагноз. Как клеймо.
В трубке раздался тихий, едва уловимый звук, похожий на усмешку. Но беззлобную. Скорее, усталую.
– Какая честь – вы помните. Значит, вы уже подобрались достаточно близко к краю. К тому, чтобы совершить ошибку.
Лера резко выдохнула, пытаясь вдохнуть в голос ту самую официальную, казённую твердь:
– Если вы думаете, что можете мне угрожать…
– Я не угрожаю, Лера, – мягко, почти отечески, перебил он. – Угрозы – для дилетантов. Я предупреждаю. Вы копаете не в том месте. Вы ищете черную кошку в тёмной комнате, где её нет. А я просто пытаюсь уберечь вас от падения в яму, которую сами же и роете.
Она машинально шлёпнула ладонью по раскрытой папке на столе, будто могла этим жестом захлопнуть её, похоронить, остановить ход событий.
– Я работаю по закону, – произнесла она, и даже ей самой это прозвучало как детский, наивный лепет.
– Нет, – возразил он, и в его голосе впервые прозвучала неоспоримая, железная уверенность. – Вы работаете по протоколу. Поймите разницу. Закон – это когда у тебя есть выбор. Пусть сложный, пусть между плохим и худшим, но выбор. Протокол… Протокол – это когда все выборы уже сделаны за тебя, тщательно взвешены, одобрены и уложены в таблицы. А тебе оставили лишь чистое поле в конце листа. Для подписи.
Он сделал паузу. Короткую, ровно такую, чтобы её сознание, натренированное годами следовательской работы, успело дорисовать все самые страшные варианты продолжения. Все те тупики, в которые упирались её прошлые дела.
– Что вы хотите? – спросила Лера, и её голос дрогнул, выдав усталость.
– Встретиться, – ответил Соколов просто, как будто предлагал чаю выпить. – Сегодня. Одиннадцать вечера. «Старая котельная» на Берсеневской набережной. Вы придёте. Одна.
Лера коротко, беззвучно усмехнулась.
– Вы серьёзно? Это звучит как дешёвая постановка. Как приглашение в подвал, из которого не возвращаются.
– Убийства, Лера, – голос его стал тише, но от этого не мягче, – случаются гораздо раньше. Не в подвале в одиннадцать вечера. Они происходят на этапе, когда человеку кажется, что ему достаточно одной-единственной правды. Я же предлагаю вам взглянуть на вторую. На ту, что пишется между строк.
– Если вы не явитесь по официальной повестке, – попыталась она ввернуть последний козырь, ледяной тон, – то я…
– То вы ничего не сделаете, – спокойно, без тени высокомерия, оборвал он. – Потому что вы уже увидели в своём деле фамилию, которую в этом кабинете, при включённом свете, нельзя произносить даже шёпотом. И вы уже поняли – интуитивно, кожей, – что ваши же коллеги, ваше же начальство, вся эта прекрасная, отлаженная машина, не поддержат вас. Они лишь пожалеют. И закроют дело уже после вас.
Она открыла рот, чтобы выдать очередную порцию гнева, но слова застряли комом в горле. Потому что он говорил правду. Не абстрактную, а конкретную, осязаемую. Правду не о справедливости, а о механике. О том, как на самом деле движутся шестерёнки этого города.
– Почему? – спросила она, и голос её стал тише, уязвимее. – Почему именно я?
Ответ пришёл мгновенно, будто он ждал этого вопроса.
– Потому что вы не умеете отступать. Даже когда это единственный разумный выход. И потому что… вы слишком похожи на человека, которого этот город уже однажды перемолол. Бесшумно, по протоколу.
Лера почувствовала, как у неё перехватывает дыхание. В висках застучало. Перед глазами, против воли, всплыло лицо. Нечёткое, как на старой фотографии. Отец. Его «несчастный случай» на стройплощадке, которую он как раз проверял. Гора бумаг по расследованию, где все экспертизы кричали об одном, а выводы аккуратно, каллиграфическим почерком, утверждали другое. Папка, которая исчезла из архива. Подписи свидетелей, которые вдруг, как по волшебству, стали разительно непохожи на их же подписи в паспортах.
– Вы… вы о моём отце? – прошептала она, и в этот момент поняла, что дала ему огромную власть над собой. Обнажила свою самую большую, незаживающую рану.
В трубке воцарилась тишина. Густая, насыщенная. Потом он заговорил снова, и его голос стал мягким, как похоронный сатин, и оттого – в тысячу раз опаснее.
– Я о вашей опасной привычке, Лера. О привычке думать, что боль – это топливо. Что чем сильнее болит, тем дальше нужно идти. А я говорю вам: боль – это не стимул. Это стоп-кран. Единственный сигнал, который этот мир даёт тебе, чтобы ты остановился. Пока не стало поздно.
Лера сжала телефон так, что побелели костяшки пальцев.
– Я не приду, – сказала она, пытаясь убедить в этом в первую очередь себя.
– Придёте, – заявил он с такой неопровержимой уверенностью, будто уже видел будущее. – Потому что через пять минут вам на почту придёт кое-что. И вы поймёте, что наш разговор – это не начало. Это уже середина. Игра идёт полным ходом. И ваша фигура на доске… уже двинулась.
Связь оборвалась. Резко, без прощаний.
Лера медленно, будто в замедленной съёмке, опустила телефон на стол. Пальцы дрожали. Но не от страха. От бессильной, всепоглощающей злости. Она ненавидела, когда с ней так разговаривали. Когда кто-то позволял себе этот тон – спокойного, почти научного превосходства. Когда кто-то смотрел на её жизнь, на её боль, как на шахматную задачу. Но сильнее этой ненависти, глубоко в подкорке, жило другое чувство – леденящий, запретный интерес. Жажда услышать продолжение. Увидеть ту самую «вторую правду». Она ненавидела и это чувство в себе тоже.
Ровно через четыре минуты, в тишине кабинета, прозвучал мягкий электронный сигнал. Письмо на рабочую почту. Без обратного адреса. Без темы. Только вложение. Один файл. Видеоформат.
Лера села, провела ладонью по лицу, будто пытаясь стереть с него напряжение, и дважды кликнула на файл.
Экран монитора поглотил свет кабинета, отразив тёмное, дрожащее изображение. Съёмка была скрытой, с плохим звуком, но узнаваемой. Тёмный салон дорогого автомобиля. На заднем сиденье, в полосе света от уличного фонаря, – мужчина. Лицо в полумраке, но профиль, манера держать голову, тембр голоса – её начальник. Начальник всего управления.
– …закрой это дело, – говорил он кому-то за кадром, его голос был усталым, бытовым. – Не нужно нам это раскачивать. Слишком высоко потянется. Всех запачкает.
– А Жданова? – спросил невидимый собеседник. Голос был глухой, обработанный.
На экране начальник на секунду замолкает, затягивается сигаретой. Тлеющий кончик освещает его пальцы.
– Жданова… – он выдыхает дым, и звучит это как скептический вздох. – Она упрямая. Идеалистка, черт побери. Ей нужно дать понять, что она ошибается. Аккуратно, без шума. Или… – он делает многозначительную паузу, в которой слышится целый спектр неозвученных возможностей, – или найти ей причину. Вескую причину. Заняться чем-то другим. Надолго.
Изображение погасло. Файл закончился.
Лера сидела недвижимо. В ушах стоял звон. Это было доказательство. Неопровержимое, кричащее. Прямая речь. И в то же самое мгновение она с леденящей ясностью осознала: это был и её приговор. Потому что доказательство такого калибра, упавшее с неба, нельзя просто отнести «наверх». «Наверх» – это и есть тот самый человек в машине. Это была не лазейка к правде. Это была демонстрация абсолютной власти. Власти показывать тебе всё, что угодно, и при этом быть недосягаемым.
«Если придёте – покажу подпись под актом о несчастном случае вашего отца. Не факсимиле. Настоящую».Телефон на столе снова завибрировал. Коротко, однократно. SMS. Тот же номер. Текст: адрес. Время. «Старая котельная». 23:00. И ниже, отдельной строкой, как финальный гвоздь:
Лера вскочила так резко, что тяжёлый кожаный стул с грохотом откатился и ударился о шкаф. Она заходила по кабинету, из угла в угол, как раненый зверь в клетке. Внутри всё кричало, вопило разумом и инстинктом самосохранения: не ходи! Это ловушка в чистом виде! Тебя хотят выманить, запугать, сломать или просто убрать! Но другая часть её – та самая, что не умела не трогать, та, что годами копалась в чужой боли в поисках осколков истины, – отвечала холодным, безжалостным шёпотом: «А если нет? А если это и есть та самая нить? Единственная за все эти годы? Ты сможешь потом жить с мыслью, что не пошла?»
В одиннадцать без пяти она стояла перед огромными, облезлыми дверями бывшей котельной на Берсеневской набережной. Здание выглядело мёртвым: выбитые окна, облупившаяся краска, снег, занесший подъезд. Но глаз следователя сразу отметил детали: камеры под самым карнизом, чистые, без наледи; следы на снегу у двери – не хаотичные, а будто кто-то специально их натоптал, но недавно; сама дверь, массивная и ржавая, имела слишком хорошо смазанные, новые петли.
Она толкнула тяжелый полог. Дверь поддалась бесшумно.
Внутри пахло не сыростью и плесенью, как должно было в заброшке, а гарью – старой, въевшейся в кирпич, – и дорогим, крепким табаком. Запахом закрытых клубов, кабинетов и решений, принимаемых не при свете дня. Запахом власти, которая сама никогда не пачкает рук, но всегда стоит рядом с огнём, греясь в его отблесках.
– Вы пришли, – раздался голос из темноты. Тот самый. Без всякого «здравствуйте».
Лера резко включила фонарик на телефоне, направив луч перед собой. Пыль закружилась в конусе света, и в его конце материализовалась фигура. Мужчина. Высокий, в идеально сидящем тёмном пальто, без шапки и шарфа, словно январский ветер с Москвы-реки был для него не более чем лёгким бризом. Лицо – правильное, почти классически красивое, но лишённое какой-либо теплоты или эмоций. Лицо-маска. Лицо человека, которого невозможно представить кричащим, смеющимся до слёз или в панике. Такие лица отливают раз и навсегда.
– Вы Соколов? – переспросила она, хотя сомнений не было.
– Да, – кивнул он. – А вы – Лера Жданова. И своим появлением здесь вы только что сделали первый, необратимый шаг. К потере своей прежней жизни. Той, где вы верили в протоколы.
– Вы меня шантажируете, – констатировала она, не опуская фонарик.
Он сделал несколько шагов вперёд. Не для устрашения. С точным расчётом. Он остановился ровно на той дистанции, где границы личного пространства уже нарушены, где можно чувствовать исходящее от другого человека тепло, слышать тихий звук дыхания, но ещё можно делать вид, что это не имеет значения. Что ты контролируешь ситуацию.
– Я предлагаю вам сделку, – сказал он тихо. Звук его голоса гасил гулкость пустого помещения.
– Я не заключаю сделок, – отрезала Лера, стараясь, чтобы голос не дрогнул. – Особенно с такими, как вы.
– С такими, как я, – произнёс он с лёгкой, почти печальной улыбкой в уголках губ, – сделки заключает каждый, кто живёт в этом городе и хочет в нём чего-то достичь. Просто не каждый готов в этом признаться. Себе в первую очередь.
Лера вскинула подбородок, стараясь смотреть ему прямо в глаза, в эти плоские, отражающие лишь свет её фонарика, зеркала.
– Итак, чего же вы хотите в итоге? Конкретно.
Соколов замер, его взгляд стал пристальным, изучающим, как у хирурга перед сложным разрезом.
– Я хочу, чтобы вы перестали играть в игру под названием «справедливость». Правила там пишут не для таких, как вы. Я предлагаю вам начать играть в единственную игру, которая здесь имеет смысл. В выживание. Со мной в одной команде.
– А если я откажусь? – выдохнула она.
Он чуть склонил голову набок, будто рассматривая редкий, интересный экспонат.
– Тогда вы всё равно будете играть. Только против меня. И правила этой игры вам известны гораздо хуже. А результат… он наступит гораздо быстрее, чем вам хотелось бы. И будет окончательным.
Лера почувствовала, как знакомый, адреналиновый привкус поднимается к горлу. Злость. Ярость. И – предательское, отвратительное – волнение. То самое тягучее, магнетическое влечение к пропасти, к высокому напряжению, которое может убить, но от которого невозможно отвести взгляд. Она ненавидела себя за эту часть натуры всей душой. И всё же стояла. Не уходила.
– Покажите, – сказала она, и голос прозвучал хрипло. – Сейчас. Покажите мне, кто подписал смерть моего отца.
Соколов улыбнулся. Едва. Не радостно. Словно учёный, наблюдающий, как опытная модель наконец-то ведёт себя в точности по расчёту.
– Сначала, – произнёс он, растягивая слова, – вы скажете одну вещь. Вслух.
– Что? – буркнула она.
Он сделал ещё один, последний, совсем короткий шаг. Теперь они стояли почти вплотную.
– Скажите: «Я слушаю».
Лера замерла. В этой тишине, в гуле собственной крови в ушах, пронеслись две секунды. Две секунды чистой, ничем не замутнённой свободы. В этих двух секундах она ещё могла развернуться, хлопнуть дверью, вернуться в свой кабинет к своим папкам, к своей протокольной, безрадостной, но безопасной жизни.
Она сделала глубокий вдох. Воздух, пахнущий гарью и властью, обжёг лёгкие.
– Я слушаю, – прошептала она, и эти слова повисли в морозном воздухе котельной, как клятва. Как присяга.
Соколов медленно, не спуская с неё глаз, опустил руку во внутренний карман пальто. Его движения были плавными, лишёнными суеты. Он извлёк небольшую, металлическую флешку, тускло блеснувшую в луче её фонарика. Затем взял её леску её левую руку, разжал её пальцы, которые сами собой сжались в кулак, и положил холодный кусочек металла и пластика ей на ладонь. А после – накрыл её руку своей. Его ладонь была сухой, тёплой, невероятно тяжёлой. И абсолютно уверенной.
– Добро пожаловать в настоящую Москву, Лера, – произнёс он, и его голос вдруг приобрёл почти ритуальное, проповедническое звучание. – Здесь, в её самом сердце, протокол – это не инструкция. Это священный текст. Религия. А люди вроде меня… мы всего лишь скромные писцы. Те, кто пишет молитвы, по которым потом живут все остальные. Пора и тебе выучить слова.
ГЛАВА 2. ФЛЕШКА
Лера не поехала домой. Мысль о четырёх стенах своей тихой квартиры, о мягком диване, о чайнике, который нужно поставить на плиту, вызывала у неё почти физическое отторжение. Дом – это ловушка для таких, как она. Место, где мозг, уставший от чужих смертей и официальных лжи, пытается создать иллюзию нормальности, безопасности, отгороженности от внешнего мира толстыми стенами и шторами. Сейчас эта иллюзия была смертельно опасна. Ей был нужен не покой, а контроль. Хотя бы над крошечным кусочком реальности. Над своим кабинетом. Над столом. Над светом.
Она вернулась в здание ведомства поздно, когда коридоры опустели и только дежурный свет мягко горел у лифтов. Её шаги гулко отдавались в бетонной пустоте. Кабинет встретил её знакомым запахом: пыль, старые книги, слабый химический оттенок от чистящих средств и вечная, неуловимая нота человеческой усталости, впитавшаяся в стены за десятилетия.
Лера закрыла дверь на ключ, повернув его дважды. Потом подошла к окну, плотно задернула жалюзи, отсекая ночной город с его бессмысленно сияющими окнами. Она выключила верхний свет, оставив только настольную лампу с зелёным абажуром – старый, ещё отцовский светильник, который она таскала за собой с самого начала карьеры. Он отбрасывал на стол конус тёплого, уютного света, резко контрастирующего с леденящим мраком за его пределами. В этой искусственной, сфокусированной полутьме мир терял объём, становился проще. Превращался в схему. В чистый лист, на котором можно чертить связи, не отвлекаясь на детали.
Флешка лежала в центре этого светового круга, на голой столешнице. Маленький, блестящий прямоугольник из чёрного пластика и металла. Он казался незначительным, почти игрушечным. Но Лера смотрела на него, как сапёр на мину-ловушку с хитроумным, неизвестным механизмом. Она протянула руку, но не коснулась, замерла в сантиметре от холодной поверхности. И вдруг её накрыло странное, почти мистическое ощущение дежавю. Будто она снова стала девочкой лет десяти, и какой-то взрослый, с лицом, стёршимся в памяти, предлагает ей открыть лакированную шкатулку. «Там лежит ответ на самый главный вопрос, Лерочка, – звучал в голове призрачный голос. – Но будь осторожна. Иногда, найдя ответ, ты теряешь всё остальное». Это была метафора, конечно. Но сегодня метафоры обрели плоть и кровь, воплотившись в этот холодный кусочек технологий.
Сделав короткий, резкий вдох, словно ныряя в ледяную воду, она схватила флешку и без колебаний вставила её в USB-порт своего рабочего компьютера. Не в личный ноутбук, который стоял дома. Личная техника – это слабость, уязвимость, открытое окно в твой внутренний мир. Рабочий же комп – часть системы. Он был тяжёлым, шумным, напичканным защитным ПО, за которым следили целые отделы. Использовать его казалось парадоксально безопаснее: это была ответственность ведомства, его крепость. И если эта крепость будет взломана, вина ляжет не только на неё. Это была слабая, детская надежда, но она за неё ухватилась.
Диск определился беззвучно. На экране появилось окно автозапуска. Никаких вирусов, никаких запросов на разрешение. Только чистая, аскетичная структура. Три папки. Ничего лишнего. Как протокол допроса: только факты, только имена.
1. ОТЕЦ.
2. СОКОЛОВ. 3. УСЛОВИЯ.
Лера замерла, уставившись на эти три слова. Они висели на экране, как три двери в параллельные реальности. Одна вела в прошлое, которое она годами пыталась забыть и восстановить одновременно. Вторая – в тёмное настоящее человека, который сейчас дергал за ниточки её жизни. Третья – в её собственное, немыслимое будущее.
Сначала она открыла первую. Потому что это было единственное, что имело для неё непреложную, пусть и мучительную, ценность.
Папка «ОТЕЦ» оказалась цифровым архивом, собранным с патологической, следовательской аккуратностью. Здесь не было эмоций, только документы. Сканы протоколов осмотра места происшествия, которые она когда-то держала в руках в бумажном виде, но с другими, «окончательными» выводами. Выписки с камер наружного наблюдения с соседней АЗС – на них были помечены временные метки, и Лера, как профессионал, сразу увидела странный, двадцатиминутный «провал» как раз в нужный промежуток. Разрозненные, отрывочные расшифровки прослушки, вырванные из контекста большего разговора. Она увидела фамилию отца – «Жданов Сергей Петрович», напечатанную безликим шрифтом. Увидела дату, которая навсегда врезалась в память. Увидела адрес: неказистый автосервис в промзоне на окраине, куда он устроился механиком после того, как его «попросили» с прежней, хорошей работы. Тот самый гараж, где официальная версия гласила: «несчастный случай, произошедший в результате возгорания промасленной ветоши и последующего отравления продуктами горения».
Внутри флешки эта версия даже не оспаривалась. Она просто игнорировалась. Вместо неё в отдельном текстовом файле, без подписи и печати, стояло одно сухое, казённое слово: «ПРОФИЛАКТИКА».
Лера прочла его вслух, шепотом. «Профилактика». Как будто речь шла не о человеке, а о поломке оборудования, которую нужно было предотвратить. Или устранить.
Она прокручивала файлы дальше, и её взгляд, выхватывая знакомые детали, начал складывать мозаику, которую она не могла собрать все эти годы. Заметки о «давлении со стороны неопределённых лиц». Справка о странном визите двух мужчин в костюмах на его предыдущее место работы за неделю до гибели. И затем – аудиофайл в самом низу списка. Без названия. Просто набор цифр, похожий на дату.
Сердце у неё бешено заколотилось. Она потянулась к наушникам, висевшим на мониторе, подключила их дрожащими пальцами. Дважды кликнула.
В наушниках послышался шум – приглушённый гул мастерской, лязг инструментов, далёкая музыка из радио. Потом – голос. Её горло сжалось мгновенно, спазматически, перекрыв дыхание. Это был он. Отец. Не таким, каким он звучал в её детских воспоминаниях – весёлым, громким, полным жизни. Это был усталый, надтреснутый, до краёв наполненный раздражением и бессильной злобой голос мужчины, загнанного в угол.
– …я не подпишу. Слышишь меня? Я не подпишу эту ахинею. Ты вообще понимаешь, что ты мне предлагаешь? Дай им доступ к реестрам на всех моих старых объектах? Это же… это даже не взятка. Это приговор. Приговор людям, которые там работали. Они же все полетят, как пробки.