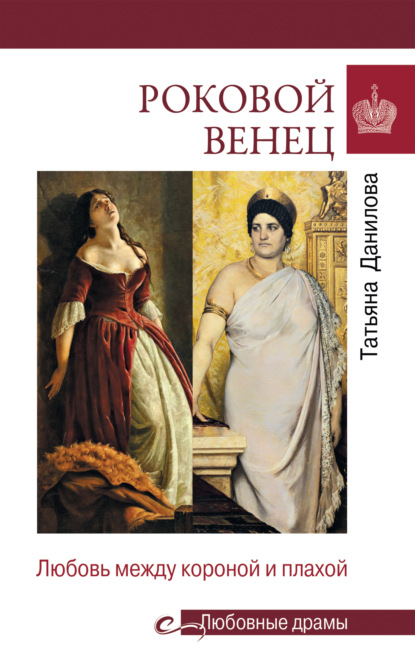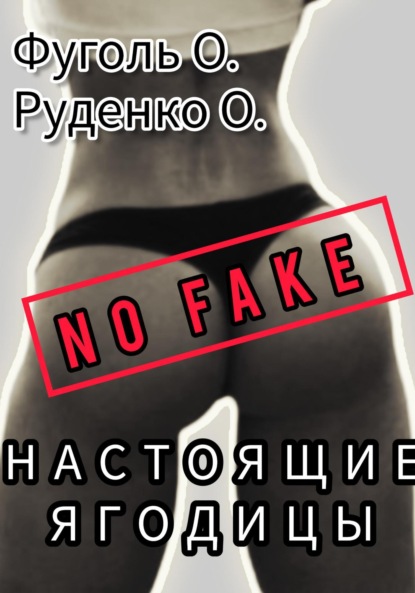Княжна Ольбора

В княжестве Ладимир хранится древняя реликвия рода Белоярины. Ключ-береста, знак власти и свидетельство священного Завета. Когда береста исчезает из неприступного хранилища без единого следа взлома, становится ясно: преступник кто-то из своих.
Княжна Ольбора возглавляет разноплемённый отряд, чтобы найти похитителя, пока ложные следы не превратили внутреннюю смуту в войну. Всё указывает на то, что заговор зародился в самом сердце княжества.
Чтобы вернуть реликвию и сохранить власть рода, Ольборе придётся разобрать этот комке лжи.