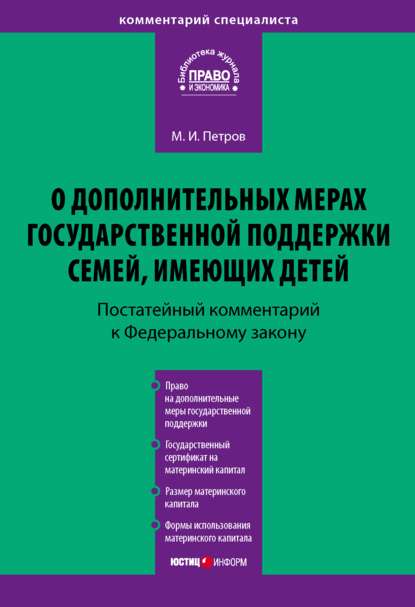Тень засохшей хризантемы. Сборник эссе и прозы

- -
- 100%
- +

Переводчик Павел Соколов
© Тэрада Торахико, 2025
© Павел Соколов, перевод, 2025
ISBN 978-5-0068-4350-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Физик и лирик в одном лице: наследие Тэрады Торахико
Произведения Тэрады Торахико (1878—1935) – это уникальное явление в японской литературе начала XX века, представляющее собой редкий и гармоничный сплав научного мировоззрения с тонким художественным восприятием. Учёный-физик, один из основателей японской физики, друг Эйнштейна и в то же время – эссеист, писатель и поэт, ученик Нацумэ Сосэки (1867—1916) Тэрада создал особый литературный универсум, где законы природы и движения человеческой души подчиняются единым, универсальным принципам красоты и истины.
Данный сборник, открывающийся лирической зарисовкой «Буря» и завершающийся ностальгическими «Воспоминаниями о господине Нацумэ Сосэки», позволяет проследить эволюцию творческого метода Тэрады и ключевые темы его художественного мира за почти что тридцать лет.
Центральной осью, вокруг которой выстраивается всё творчество Тэрады, является диалог между научным и художественным способами познания мира. В программном эссе «Учёный и художник» автор не просто находит точки соприкосновения между этими, казалось бы, полярными сферами, но и убедительно доказывает их глубинное родство. Для Тэрады интуитивное прозрение художника сродни озарению учёного, а строгая красота математической формулы – эстетическому переживанию от совершенного стихотворения. Эта мысль находит отражение и в других текстах: в «Научных элементах в литературе» он аналитически разбирает структуру литературного произведения, а в «Цветах в палате» внимательный, почти ботанический взгляд на увядающие растения перерастает в глубокие философские размышления о жизни, смерти и сущности прекрасного.
Рассказ «Буря», помещённый в начало сборника, можно считать своего рода микрокосмом всей прозы Тэрады. В нём присутствуют все характерные черты его стиля: лаконичный, но удивительно ёмкий и образный язык, внимание к детали, которая становится символом (разрушенная хижина Кума-сана, цветы ямабуки), тонкое чувство природы, передающее не просто пейзаж, но его внутреннюю, почти физическую динамику. История о молчаливом Кума-сане, чьё существование на окраине жизни обнажается и приобретает трагическое величие в момент стихийного катаклизма, – это размышление о хрупкости человеческого бытия и стоическом сопротивлении ударам судьбы.
Многие тексты сборника носят автобиографический характер. В «Тени засохшей хризантемы» и «Цветах в палате» через призму личной болезни автор исследует границы человеческого сознания, страх небытия и хрупкую надежду на выздоровление. В «Блюдце майолики» и «Поздравительных открытках» он с иронией и печалью пишет о социальном неустройстве, одиночестве «маленького человека» в стремительно меняющемся мире эпохи Мэйдзи и Тайсё.
Особое место занимают воспоминания о ключевых фигурах японской культуры эпохи Мэйдзи – Нацумэ Сосэки и Масаоке Сики. Эти эссе бесценны не только как мемуарные свидетельства, но и как глубокие размышления о природе творчества, учительстве и интеллектуальной дружбе. Тэрада рисует живой, лишённый хрестоматийного глянца образ Нацумэ-сэнсэя – щепетильного, ироничного, многогранного, чьи уроки простирались далеко за рамки хайку или английской литературы.
Тэрада Торахико виртуозно работал в разных жанрах. Помимо традиционных эссе и рассказов, в сборнике представлены и формальные эксперименты. Цикл «Сон» – это настоящие литературные импрессионистские зарисовки, где логика сновидения рождает мощные сюрреалистические образы, предвосхищающие европейский авангард. «Осенняя песня» и «Прелюдия к одной фантазии» – образцы лирической прозы, построенные на музыкальных принципах, где слово стремится к состоянию чистого звука и эмоции.
Творчество Тэрады Торахико – это мост между двумя культурами: уходящей в прошлое Японией с её созерцательностью и верностью традиции и новой, рационалистической эпохой, принесшей с собой науку и индивидуализм. Его проза – это всегда вдумчивый, честный и проникновенный диалог с миром во всём его многообразии. Она обращена к читателю, который готов не только чувствовать, но и мыслить, который видит поэзию в точности научного наблюдения и находит стройную логику в порывах человеческого сердца.
Этот сборник – возможность погрузиться в уникальный художественный мир японского классика. Физика и лирика. Учителя и ученика своей эпохи.
Павел СоколовБуря
Впервые я прибыл на этот берег весенним вечером, когда золотистые цветы ямабуки осыпались с живых изгородей. Хотя пароход пришвартовался у берега, никто не пришел встречать постояльцев. Взвалив свой багаж на плечи, я один прошел через пропахшую морскими тварями рыбацкую слободу и, следуя указаниям, наконец вошел в задние ворота гостиницы, пройдя около двух сотен метров вдоль волнореза. В сумраке у ворот, среди выброшенных раковин, беспорядочно лежали и эти цветы ямабуки. На следующее утро я увидел, что за изгородью из ямабуки простирается тутовое поле, а посреди него красиво цвели два-три дерева магнолии. Но вот и они отцвели, листва густо зазеленела, и наступило лето.
Говорили, что гостиница эта раньше была рестораном, которую позднее переделали в постоялый двор, и большая комната на втором этаже была, по местным меркам, неподобающе велика. Поскольку я намеревался задержаться здесь на некоторое время для поправки здоровья после болезни, я снял маленькую комнату внизу под номером семь. Перед ней был разбит небольшой садик, а на заборе из корабельных досок, что отделял сад от тутового поля, часто спала днем трехцветная кошка хозяев гостиницы. Когда дул ветер, ивы по ту сторону забора клонились, подчиняясь его порывам. Когда на втором этаже не было гостей, я выносил стул в середину большой залы и, завладев всеми тридцатью татами в одиночку, смотрел оттуда на море. Вдали виднелся остров Окуносима являл взору свои краски, менявшиеся утром и вечером. Примерно с трех часов дня начинали возвращаться рыбацкие лодки. Цвет волн в этой бухте, омываемой течением Куросио, был густым, насыщенно-синим, и вместе с белыми парусами, сверкавшими в лучах заходящего солнца, они представляли собой сильное, полное жизни зрелище. Оно было прекрасным, но ночные звуки работы весел наводили тоску. Тоска эта проникала в самую душу без видимой на то причины. В первые дни после приезда я просыпался от шума волн и ветра в ночи, к которому еще не привык, и печалился, слыша, как вдали обрываются и затихают песни. Но, привыкнув, я перестал придавать этому значение. И хозяева гостиницы, с которыми я успел сойтись, тоже радовали, проявляя подчас неподдельную, не связанную с выгодой заботу. В дождливые ночи, когда нельзя было выйти на берег, меня звали поболтать у конторки, и я иногда помогал заполнить какой-нибудь регистрационный листок для постояльцев. Хозяйкой гостиницы была женщина лет шестидесяти. Днем она обычно уходила в море на рыбалку, и, похоже, все дела по гостинице целиком поручались Тора-сан, который был и поваром, и управляющим. Вернувшись, она жарила свой улов и угощала им трех кошек. Коты были: трехцветный, черный и «жемчужный». Случалось, что ночью старушка просыпалась и, обнаружив, что кого-то не хватает, шла искать его по всему дому, поднимая переполох и доставляя постояльцам беспокойство. От этой старушки я слышал разные истории о постояльцах, их личные дела. Рассказ о том, как грабитель, притворившись джентльменом-коммерсантом, остановился здесь; эпизод о том, как чиновник префектуры, сойдясь с рыбаками, совершил неблаговидный поступок – в основном она рассказывала такие истории без всяких расспросов. Но среди них были и грустные. Например, история о том, как несколько лет назад летом на втором этаже умерла от чахотки молодая красивая жена одного гостя, и ее предсмертные муки – если читать о таком в романе, это покажется банальным, но, слушая здесь, не мог сдержать слез. Беседы за чаем в дождливые ночи в бухте и сейчас остаются в памяти, но есть нечто, что врезалось в сердце еще глубже, чем они, чем почерневшее от морского ветра лицо старушки, чем цветы ямабуки в изгороди, – нечто незабываемое.
Выйдя через задние ворота гостиницы и поднявшись на земляную насыпь, а затем свернув направо, на краю сосновой рощи можно было увидеть огромную черную сосну, чья вершина, согнутая морским ветром, склонялась вниз, укрывая многолетние слои опавшей хвои на соломенной крыше под насыпью. У подножия той сосны стояла некая хижина. Ее столбы были из бамбука, вкопанного в землю, крыша представляла собой лишь каркас, а вместо двери висела рваная циновка, так что казалось невероятным, чтобы тут мог жить человек. Но, заглянув внутрь, я увидел, что на сколоченных из досок настиле валялось разорванное стеганое одеяло. Назвать его одеялом – да, это было одеяло, но больше походило на кусок слежавшейся ваты. Прямо перед хижиной было устроено нечто вроде лотка, на котором были разложены грязные мешки из рисовой соломки, обрезки картофеля, словно корм для лошади, и немного дешевых конфет, выцветших от песка и пыли. Сбоку стояла бутыль из-под пива с отбитым горлышком, в которой торчали какие-то летние цветы. Под карнизом этого «магазина» висели, колышась на ветру, без единого просвета, свитки из синей и красной бумаги, испещренные наскоро набросанными, должно быть, такнка или хайку. Я удивлялся, бывают ли покупатели, которые приходят в такую странную лавку за таким товаром, и, по правде говоря, я ни разу не видел здесь ни одного клиента. Тем не менее, лавка всегда была «прибрана», и цветы в пивной бутылке никогда не стояли увядшими.
У этого заведения, никому не понятного, был свой хозяин, неведомый ничьему сердцу, Кума-сан.
Поскольку я всегда выходил на берег, спускаясь с насыпи как раз перед этой лавкой, я встречался с Кума-сан почти ежедневно. Летнее солнце, которому не хватало тени, отбрасываемой соснами на узкую насыпь, пыталось сползти вниз, на бататное поле, а там лежал большой круглый камень-валун, служивший для Кума-сана отличным креслом. Ему было, должно быть, уже за пятьдесят. В целом, это был крепкого сложения мужчина, с лицом, всегда лоснившимся, словно из меди. Его волосы были грязными, отросшими, покрытыми сажей, но иногда он, не жалея, сбривал их наголо, и тогда спокойно сидел, подставив лысую голову солнцу.
Одежда на нем была соответствующая: поношенная куртка из ткани кокура, вроде тех, что носят дворники, и потертые коричневые штаны, какие, пожалуй, носят каторжники. В целом, он казался неразговорчивым, но когда проходившие мимо рыбаки окликали его, он отвечал густым, низким «О-о-». Это был не унылый голос, погруженного в нищету, а скорее мощный, подобный рыку дикого зверя. Его лицо всегда было пугающе серьезным, он курил трубку и смотрел в сторону моря. Поначалу я думал, что он сердится, но, видимо, это было не так. Оно всегда оставалось неизменным – таким и было лицо Кума-сана.
Сначала и эта странная лавка, и странный Кума-сан казались мне жутковатыми, но, привыкнув, я перестал это замечать. Существование такого заведения и такого человека на окраине сосновой рощи стало казаться совершенно естественным, и у меня не возникало ни малейшего желания строить догадки о прошлом Кума-сана или истории этой лавки, да и расспрашивать о нем кого-либо тоже не хотелось. Если бы ничего не произошло, и мы бы просто разъехались, я, вероятно, к настоящему времени уже давно забыл бы о Кума-сане, но из-за одного случившегося события его образ до сих пор стоит у меня перед глазами.
Одной ночью разразилась буря, потрясшая весь берег.
В тот вечер, накануне ненастья, я стоял, опершись на перила темного второго этажа, где не было гостей, и смотрел на море. Облака, с самого дня носившие зловещий вид, неслись все быстрее, на север, все дальше и дальше. Закат окрасился в зловещий, необычный темно-желтый цвет, и, пока я дивился этому, он тоже исчез, и в сгущавшихся сумерках свинцового неба рваные клочья облаков, словно в кошмаре, бесконечно накатывали с моря. Водная даль была совершенно черной, не видно было ни одного рыбацкого огонька. Крупные звезды, мерцая влажным светом, мелькали в разрывах облаков. Обычно в этот час, когда вечерний ветер стихал, стояла влажная, душная и тягостная жара, но в эту ночь странно влажный и холодный ветер, порыв за порывом, вихрем вздымался над бататным полем у подножия насыпи и трепал свиток в темной нише токонома. Казалось, что и травы, и деревья, и даже ветряной колокольчик под карнизом движимы незримыми душами.
На берегу я увидел костер. Это было обычным делом каждую ночь – там потрошили и жарили на огне пойманного за день тунца, и цвет пламени, разрывавшего темноту берега, был прекрасен, ярко высвечивая движущиеся обнаженные силуэты людей вокруг него. Каждый раз, когда пламя колыхалось, тени колыхались и извивались, и это было как-то жутко. В тени носа стоявшего на якоре парусного судна тускло светил синий бортовой огонь, и его отражение крупно и извилисто ложилось на воду. На мысе тускло горел красный огонь сигнальной вышки, отражаясь в волнах. Где-то в темноте, сквозь завывания ветра, прозвучал окрик: «Эй-й!».
Подумав, что начинается буря, я спустился со второго этажа и вернулся в свою комнату. Растянувшись перед письменным столом и прислушиваясь к шороху листьев банановника, хлеставших по ставням, я размышлял о величественной буре, что вот-вот обрушится на бухту. Море стонало тяжело и далеко, будто из самой глубины земли.
«В такие одинокие ночи…» – подумал я и пошел поболтать к конторке. Старушка, поставив перед собой жаровню и усадив на колени трехцветного кота, дремала. Тора-сан, вполголоса напевая что-то из дзёрури, наводил порядок в подсобке. Из комнаты служанок доносился веселый смех. В противоположность тому, что творилось за стенами, здесь, как всегда, царил мир.
Разговор зашел о буре, и старушка принялась рассказывать о страшных, ужасных бурях, что хранились в ее памяти. Тора-сан с пола вставлял реплики и поддакивал. В одну из жутких бурь черные волны, говорили, накатывали на берег больше чем на сотню метров, омывая подножия сосен в роще. А один человек, что смотрел тогда в море, рассказывал, будто видимость была, как в тумане, и целые сонмы фосфоресцирующих огней, словно дым, колыхались на волнах. В бурю на берегу, когда неведомая сила ветра вздымает бездонный океан, сражаясь с самой осью земли, ничтожность и слабость человека обнажаются без остатка, душа притягивается к грани потустороннего мира, и тогда, должно быть, и являются такие видения.
Буря усиливалась с каждым часом, принеся с собой дождь. Шум волн становился все ближе.
Возвращаясь в свою комнату, я прошел через земляной пол под лестницей, ведущей на второй этаж, и услышал, как в курятнике куры возились, похоже, еще не заснув, и тоскливо кудахтали. Забравшись в постель и прислушиваясь, я слышал, как сосновые верхушки или бамбук в изгороди издавали протяжный, пронзительный крик. Вспомнив рассказ о фосфоресцирующих огнях, я подумал, не души ли это тех, кто погиб в море в подобные ночи. Они примчались с ветром, приплыли на волнах и теперь поднимают свой вопль. Я закутался покрепче в рукава своего ночного кимоно. Но крики, казалось, преследовали меня, цеплялись за щиты ставен, и это было страшно.
К рассвету ветер немного утих. Дождь тоже прекратился, но шум волн стал лишь громче.
Встав, я вышел на заднюю насыпь, чтобы посмотреть на волны.
Хижина Кума-сана была разрушена и превратилась в бесформенную кучу строительного лрма Рваная циновка, служившая защитой от дождя, отлетела далеко к подножию насыпи, бамбуковые столбы накренились и упали, свитки, украшавшие карниз, были сбиты дождем и разбросаны вместе с зеленой хвоей сосен. Цветы в пивной бутылке и обрезки картофеля были разметаны, а стеганое одеяло Кума-сана промокло и бессильно провисало. Я огляделся в поисках самого Кума-сана, но нигде не было видно и следов его.
С тяжелым чувством я спустился с насыпи на берег. Плети батата на песчаной гряде были взъерошены и перепутаны, словно их скрутили в клубок, и белая изнанка их листьев торчала вверх, как последняя память о буре. Море вдали было еще темным. Оборванные хвосты дождевых туч нависали над близлежащим островом, сливаясь с туманом, поднимавшимся от прибоя. Волны, разбивавшиеся о скалы ближнего мыса, потрясали своими белыми гривами, подобные обезумевшим серебристым львам. Мутно-зеленые валы, накатывавшие на песчаный берег, сминали и дробили выброшенные водоросли. Было красиво, как на отмели, усыпанной разноцветной галькой, мерцали бесчисленные выброшенные на песок медузы.
Побледнев от брызг, врывавшихся за полы моего свободного ночного халата, я вдруг взглянул в сторону батареи и сквозь морскую дымку смутно различил присевшую у самой кромки прибоя человеческую фигуру. С первого взгляда я понял, что это Кума-сан. Ни у кого больше не было такой куртки из ткани кокура и таких темно-оранжевых штанов. Он собирал обломки досок и щепки, выброшенные на берег прошлой ночной бурей. Я, сам не зная зачем, направился в ту сторону. Его лицо, как всегда, цвета меди, было бесстрастным, пока он старательно обыскивал водоросли. На нем не было и тени печали. Он не замечал моего приближения, сосредоточенно собирая обломки и забрасывая их повыше на песок. Он не обращал внимания на прибой, накатывавший к самым его ногам, и не вытирал брызги, что временами окатывали его с головой.
Прошлое этих щепок и обломков, приплывших и выброшенных волнами неизвестно откуда, похоронено где-то за морем, и здесь они являют свой жалкий конец. Неведомая людям половина жизни Кума-сана была забыта ненадежной человеческой памятью. Этот жалкий облик, собирающего плавник у порога не столь уж далекой могилы, больно врезался мне в сердце.
На фоне величественной природной картины, открывавшейся в этом месте, я увидел этого бесстрастного Кума-сана, и чувство, хлынувшее в мою душу в тот миг, не подвластно ни кисти, ни словам.
Вернувшись в гостиницу, я застал служанку Яэ, убирающуюся в моей комнате. «Домик Кумы-сана совсем развалился», – сказал я. Она, складывая мое ночное кимоно, с видом человека, которого это глубоко задело, с чувством ответила: «Да-а, жалко его. Когда у него еще была жена, он не был таким». Я ничего не ответил, прислонился к столбу на веранде и смотрел в небо, где белые облака, словно последнее прощание бури, разлетались по ветру.
Октябрь 1906 годаТень засохшей хризантемы
«Похоже, у вас начинается воспаление легких, так что будьте, пожалуйста, осторожны. Как-нибудь сегодня вечером я еще зайду», – сказал доктор и ушел.
Жена у жаровни в изголовье, положив на колено детское весеннее кимоно, которое она шила, уставилась в пространство, размышляя о чем-то, а потом, словно очнувшись, снова задвигала иголкой. На рукавах кимоно из китайского крепа был изображен цветущий весенний цветочный вазон. На вопрос: «А где служанка?» – она ответила: «С самого утра спит», – и снова погрузилась в молчание. Лишь слабый монотонный звук, который издавал железный чайник на жаровне, вызывал почему-то чувство облегчения. Поправив пузырь со льдом, наложенный на веки, я взглянул сквозь стеклянную дверь на ноябрьское небо. Прозрачный свет наполнял небо и землю, и не было ни малейшего ветерка. За забором у ворот собрались двое-трое соседских ребятишек и громко о чем-то разговаривали, но их голоса доносились словно бы издалека. В ухе, прижатом к подушке, явственно и громко звучал шум пульсирующей крови.
«Опять воспаление легких?» – подумал я. Вспомнились времена, когда я уже дважды болел этой же болезнью. Первый раз это было еще в начальной школе, и многое я уже позабыл. Все мучения от болезни совершенно стерлись из памяти, и всплывали, не соблюдая порядка, лишь приятные воспоминания, связанные с болезнью. Вообще-то я был у родителей единственным и бесценным сыном и рос избалованным, но когда заболевал, становился, говорят, еще более капризным, и со мной невозможно было сладить. Даже лекарства никак не удавалось заставить меня принять. «Если выпьешь это, куплю тебе то-то», – говорили они, и у изголовья моей кровати громоздились игрушки и книжки с картинками. Когда мне становилось немного лучше, я уже пытался выйти на улицу поиграть, и тогда количество игрушек, чтобы удержать меня дома, снова увеличивалось. Это стало правилом, и с тех пор, если мне хотелось чего-то дорогого, я выпрашивал это во время болезни. Когда я думаю, что именно тогда научился как бы вымогать у родителей нужные вещи, используя болезнь как предлог, мне до слёз захватывает дух от тоски по их лицам. Во второй раз я заболел весной, сразу после окончания средней школы, когда перешел в старшую. Лежа на скрипевшей кровати на втором этаже какой-то больницы под незнакомым небом вдали от дома и глядя на вишни в окне при Луне, я все же почувствовал тоску. Как раз перед экзаменами за второй семестр друзья-земляки, несмотря на свою занятость, по очереди навещали меня, все они тратили свои скудные карманные деньги, чтобы принести мне сладости или фрукты, и утешали веселыми разговорами так громко, что вызывали гнев врачей. Когда я сейчас думаю о том времени, мне кажется, что, возможно, это был самый счастливый период в моей жизни. Если перевернуть пословицу «Нелюбимый ребенок весь мир заполонит», то выходит, что человек, рожденный, казалось бы, для того, чтобы, будучи здоровым, умным и богатым, победоносно шествовать по жизни, возможно, так никогда и не узнает, каково это – сквозь смех проливать слезы над яблоком, в которое вложена подлинная дружба. Под влиянием книг, которые я тогда любил читать, у меня сложилось смутное представление, что индивидууму, в общем-то, и не нужно ничего делать, а хорошо бы просто мирно и красиво прожить свою жизнь, и меня совершенно не беспокоило, что из-за болезни я пропущу экзамены или провалюсь. Более того, я думал, что если из-за недуга мое тело ослабнет и я не смогу заниматься наукой, то, возможно, приближусь к той праздной жизни, о которой мечтал. Поскольку у нас в деревне было немного земли, я мог бы сделать ее источником средств к существованию и для души разводить цветы, а если бы оставались деньги, покупал бы и читал любимые книги. Совершал бы утром обход полей, возвращался бы и пил парное молоко от нашей коровы, а когда уставал бы читать, поливал бы цветы или играл что-нибудь на пианино. Никого бы не бояться, ни перед кем не пресмыкался, жизнь была бы в своё удовольствие – вот о какой безмятежной, как сон, жизни я всерьез размышлял. Потому я и не думал о том, перейдет ли воспаление легких в чахотку или нет. Не было никакой уверенности, что недуг обязательно пройдет, стоило ошибиться, и я мог бы умереть, но, как ни странно, я, кажется, совсем не размышлял тогда о смерти. Я думал, что умру молодым, но не потому, что боялся смерти. Мне казалось, что ранняя смерть – это нечто прекрасное, и я размышлял тогда, что смерть – это не такое уж важное событие, вроде как перейти из бытия в небытие, а всего лишь небольшое изменение, подобное тому, как облетают цветы, а вместо них появляются молодые листья, и что, даже если человек уходит, его душа остается цвести в полевых цветах. Поскольку я так чувствовал, то, хотя и испытывал некоторые страдания от болезни, моя душа была, как ни странно, спокойна. Благодаря ли тому, что я, не торопясь, спокойно лечился, но после этого мое тело стало даже крепче, чем раньше. И я по совету врачей и друзей начал заниматься спортом. Я играл в теннис, учился ездить на велосипеде. Я и раньше не очень любил мясо и тому подобное, но после того, как начал заниматься спортом, стал есть все что угодно, и с тех пор мог даже немного выпить. Раньше, оказываясь перед людьми, я сразу же смущался, но теперь мог без всякого стеснения петь перед обществом однокурсников, даже если делал это плохо. Я и сам хорошо понимал, что даже в моем характере произошли заметные изменения, и друзья тоже так говорили. Однако это было лишь изменение в поведении, проявившееся внешне, а пассивная природа, данная мне от рождения, никуда не делась. Иначе, возможно, я и не стал бы теперь таким пассивным мелким чиновником и без всякого удивления выполнял бы каждый день одну и ту же незаметную работу. Вообще-то у меня и в мыслях не было поступать на юридический и становиться таким чиновником. Когда я учился в средней школе, меня часто спрашивали, кем я собираюсь стать, но я еще не думал, кем же я хочу быть. Если бы я подумал, то, возможно, оказался бы в некотором затруднении, поскольку не находил ничего подходящего. Некоторые говорили: «Как насчет карьеры чиновника?» – но я с самого начала не любил эту касту. Я считал, что чиновники – это те, кто, сами не зная почему, бессмысленно важничают. Каждый раз, когда я получал взбучку от какого-нибудь служащего почтового отделения или сотрудника приемной налоговой инспекции, я ненавидел их все больше. А еще я не любил военных. Тогда в нашей стране впервые создавали полки нового образца, и внешний вид солдат и офицеров был для нас в диковинку, и пока мы с интересом разглядывали их мечи и ордена, все было хорошо, но постепенно даже в детских глазах стало появляться нечто неприятное. Когда в воскресенье из окна второго этажа деревенского трактира множество солдат, высунув свои красные лица, дразнили проходящих мимо девушек криками или, медленно бредя пьяными по узкой деревенской дороге, держась за руки, втроем или вчетвером, вели себя нагло, это вызывало у меня крайне неприятное чувство. Я думал, что если солдаты – это плохо, то офицеры, наверное, хорошие, но однажды, наблюдая за учениями на плацу, я увидел, как молодой офицер схватил одного солдата и что-то громко кричал на него. Его грубые и отвратительные слова вызывали гнев даже в сердце ребенка, слушавшего их со стороны. В тот момент мне стало жаль солдата, и я подумал, не броситься ли мне на грудь этого офицера. С тех пор в мою голову въелась простая мысль, что все военные, вероятно, таковы, и она не исчезает до сих пор. По этой причине я ни в коем случае не мог сойтись с теми, кто в школе хотел стать военным, и эти ребята, считавшие меня трусом, сильно издевались надо мной во время походов и учений. На самом деле я был плаксивым трусом, но при этом очень ненавидел, когда побеждали несправедливость и беззаконие. Когда подобные вещи усиливались, я проявлял свою трусливую натуру и сразу же начинал плакать, но мой непокорный дух гнал моё слабое тело на схватку с компанией будущих военных. Плача бесстыдно, я изо всех сил цеплялся и кусал все, до чего мог дотянуться. В схватке между компанией военных, считавших драку забавой, и трусом, бьющимся изо всех сил, обычно более сообразительные военные отступали. Кто же в итоге победил, а кто проиграл, я и сейчас не могу сказать.