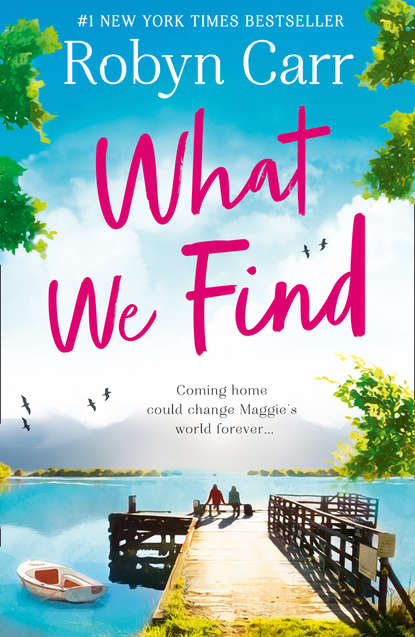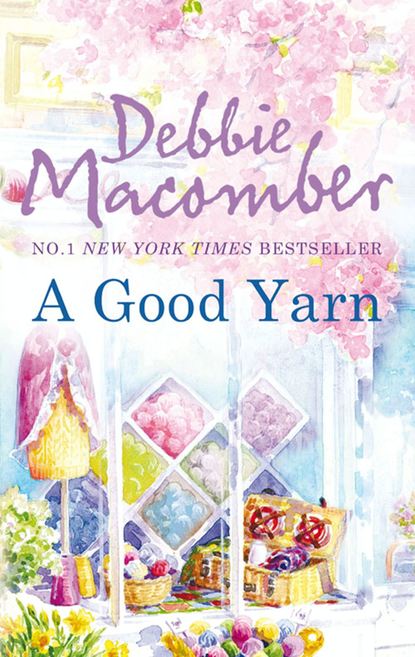Ловцы бога. История-миф

- -
- 100%
- +

"Люди грядущего поколения будут знать многое, неизвестное нам, и многое останется неизвестным для тех, кто будет жить, когда изгладится всякая память о нас. Мир не стоит ломаного гроша, если в нем когда-нибудь не останется ничего непонятного".
Сенека Луций Анней.... и у алтайских волшебников есть тайны. Посвящение друзьям.
Татьяна ТЕСГлава I. МИФ О ТАНЦУЮЩЕЙ МЕЖДУ МИРАМИ ВОЛШЕБНИЦЕ
Таир ощущала себя владычицей не просто мира – всей бескрайней вселенной, а может, и тех неведомых галактик, что мерцают в бездонной вышине. Она кружилась на заснеженной вершине Белухи, и звонкий, задорный смех её разносился по ущельям, будто перезвон хрустальных колокольчиков. Но власть её, сколь бы величественной она ни казалась, простиралась лишь до очерченных природой границ – до изумрудных просторов Уймонской долины, окутанной синеватой дымкой. Воздушная юбка взметалась в танце, рассыпая вокруг золотистые блики, подобные сказочным снежинками солнечного света.
Таир, согревая в ладонях крошечные льдинки своим тёплым дыханием, выпускала их в воздух – и тут же на изумрудной траве проступали жемчужные капли росы, словно слёзы утренней зари. Когда же она решала одарить землю дождём, то обращалась к самой Белухе. Бережно брала ледяной осколок, хрупкий, как сновидение, разбивала его на мельчайшие частицы, складывала в узорчатый кубок, сотканный из лунного света. Затем добавляла несколько драгоценных слезинок – то ли слёз радости, то ли горя, – и лёд мгновенно таял, превращаясь в чистейшую влагу.
И тогда Таир, вскинув руку с царственным изяществом, разбрызгивала эту живительную влагу над полями и лугами. Капли падали, словно звёзды, упавшие с небес, оживляя землю, пробуждая в ней дремлющие силы, даря надежду и новую жизнь. В зависимости от настроения владычицы долина преображалась: то нежилась в ласковой пелене мелкого дождика, то содрогалась под яростными, колючими струями ливня, будто сама природа подчинялась её переменчивому нраву.
Танцуя, Таир с тайным удовольствием наблюдала, как воздушная юбка взбаламучивает гладь рек и озёр, вздымая крошечные волны. Испуганные тучки, словно робкие птицы, прижимались к земле под напором вихря, закрученного её стремительным движением. Молодая волшебница – прозрачная, лёгкая, словно сотканная из утреннего тумана, – являла собой причудливое сочетание стихий. Рыжие кудри струились до самых пят, озорные чёрные глаза сверкали, как угольки, а капризные маленькие губки то складывались в лукавую улыбку, то недовольно хмурились.
Порой на неё накатывала тоска, и тогда долина надолго погружалась в молочную пелену тумана. Горные тропы становились коварными, скрывая под обманчивой дымкой опасные обрывы – незримое отражение её грусти. Но стоило Таир развеселиться, и долина расцветала. Несравненная благодать разливалась по алтайским равнинам, словно птичий щебет, наполняя воздух радостью. Кристальная свежесть пронизывала всё вокруг, исцеляя усталые души, даря покой и надежду. Каждый вдох становился целебным, а сердце – лёгким, будто подхваченным ветром её беззаботного танца.
Подобные шалости Таир позволяла себе редко – лишь когда тоска становилась невыносимой. Чаще же волшебница томилась в гордом одиночестве на вершине Белухи, словно стражница, поставленная самой природой. Она охраняла эту священную высоту не только от неугомонных путешественников, жаждущих покорить неприступный пик, но и от иных, куда более могущественных сил. От жаркого, почти обжигающего дыхания своего отца – Солнца, чьи лучи порой пытались растопить вечные снега. От буйных капризов матери – Вселенной, чьи магнитные бури рвались сюда, словно неистовые ветры, жаждущие сорвать с горы её ледяную корону. Таир стояла на страже, тонкая, прозрачная, словно сотканная из горного воздуха, – хранительница границы между миром людей и царством стихий.
«Никто обо мне не знает! – в тихом отчаянии шептала Таир, и голос её растворялся в горных ветрах. – Я спасаю людей от лютых морозов, что сковывают землю ледяным панцирем. Я укрощаю яростные ветры, готовые сорвать крыши с домов и повалить вековые деревья. Я оберегаю их от гроз, чьи молнии рвутся к земле, как огненные копья. Я охраняю мосты, что связывают берега, и держу буйные реки в узде, чтобы они не обрушили свои воды на долины, не разрушили переправы, не смыли людские труды…»
В последнее время тоска всё чаще окутывала её, словно холодный туман. Таир бродила по заснеженным склонам, и в душе её нарастало горькое одиночество. Порой, не в силах сдержать отчаяние, она топала ножкой – и тотчас небо вздрагивало: раскаты грома разрывали тишину, а молнии, словно огненные змеи, прочерчивали свинцовые тучи. Она знала – так поступать строго-настрого запрещено, но сердце, переполненное невысказанной болью, требовало выхода.
«Все твердят: „Слава Богу, Господи, помоги!“ – с горечью вздыхала Таир, глядя вниз, на крохотные фигурки людей. – А ведь помогаю;то я… Кто вспомнит обо мне? Кто воздаст хвалу той, что стоит на страже между стихиями и человеческим миром? Кто увидит ту, что прячет свою силу в ветре, свою печаль – в тумане, а свою любовь – в капле утренней росы? Люди меня не знают. Зато знают его…»
Она опускалась на холодный камень, обхватив колени руками, и смотрела, как внизу, в долинах, зажигаются первые огни. Люди жили, любили, радовались – и даже не догадывались, что за их покой отвечает невидимая стражница, чья судьба – быть незамеченной, но необходимой, как воздух, как свет, как сама жизнь.
Она отчётливо сознавала: подобные мысли недостойны волшебницы. Но тщетно пыталась совладать с собой – густая мгла горечи и обиды застилала разум, словно непроницаемый горный туман, поглощающий последние лучи солнца. И вот в один из тех хмурых, безрадостных дней, когда небо нависло низко;низко, будто придавленное собственной тяжестью, свершилось неизбежное. Высший совет старших волшебников – собрание древних, чьи имена затерялись в веках, – вынес свой приговор.
Во главе совета восседал Путник, повелитель гор: молчаливый, седовласый, с глазами, полными тысячелетней мудрости и столь же древней усталости. Без лишних слов, без попыток утешить или объяснить, совет лишил её престола – снежной вершины, что была её домом, её крепостью, её судьбой. Даже могущественные родители – Солнце и Вселенная – оказались бессильны перед непреклонным решением старейшин. Их голоса, обычно звучащие как громовые раскаты, здесь не имели веса.
Таир стояла перед советом, прямая и бледная, словно изваяние из горного хрусталя. Она не просила, не умоляла, не оправдывалась. Лишь в глубине её чёрных глаз, обычно искрящихся озорством, теперь тлела тихая, безотрадная печаль – как последний уголёк в остывающем костре. Таир была изгнана к людям – на срок неведомый, до тех пор, пока не искупит свою вину и не пройдёт испытание. Долина же, оставшись без покровительства всевышних сил, словно затаила дыхание: ветра притихли, реки замедлили бег, а горы замерли в тревожном ожидании.
– Вновь возведём тебя на трон Белухи, когда придёт время и ты заслужишь прощение, – произнёс Путник.
Его золотой плащ мерцал, словно отблески закатного солнца на снежных вершинах, а пальцы неторопливо перебирали бусы из горного хрусталя – каждая грань переливалась, храня в себе отголоски древних заклинаний. Он поднял взор – и синие глаза его, бездонные, как ледниковые озёра в глубине ущелий, пронзили Таир до самого сердца.
– Когда усмиришь свою зависть и гордыню, тогда и вернёшь волшебную силу и свои магические наряды. Ступай!
Гнев вспыхнул в душе Таир, словно молния в ночной тьме.
– Я отомщу тебе! – сжала она кулачки, и в этом движении была вся её непокорная сущность.
– Дряхлый старикашка, чёрствый волшебник! Я пожалуюсь на тебя Богу – он спасёт меня! Он старший, он… он…
Слова оборвались, застряв в горле. Горячие слёзы, словно расплавленное серебро, покатились по щекам.В этот миг она ощутила нечто новое, чуждое её природе: прерывистое, быстрое человеческое дыхание, сдавливающее грудь; прохладную росу, выступившую на коже ног, будто сама земля напоминала ей о бренности плоти.
Волшебница, ещё вчера повелевавшая ветрами и грозами, теперь стояла, сгорбившись, среди людей – маленькая, растерянная, лишённая сияния. Ветер, прежде послушный её воле, равнодушно играл прядями её волос, а небо, некогда внимавшее её призывам, оставалось безмолвным. В этот миг Таир впервые по;настоящему почувствовала, что значит быть человеком.
Глава I. КРУГ «ПРЕДЧУВСТВИЕ»
– Хочу запечатлеть этот день, – тихо произнесла Эмма, словно доверяя тайну едва уловимому сквозняку, пробирающемуся сквозь щели старого фотосалона.
Она сжала в ладони тёплую руку сына – ему сегодня исполнилось семь. Семь лет, семь мгновений, семь тайн, спрятанных в ясных глазах, ещё не знающих тяжести взрослого мира.Фотосалон встретил их полумраком и запахом пожелтевшей бумаги. В углах клубилась пыль, будто застывшее время, а на стенах висели портреты незнакомцев – чьи‑то радости, чьи‑то вехи, теперь лишь тени на выцветших фонах.Фотограф, человек с лицом, изрезанным морщинами‑лабиринтами, молча кивнул.
Его камера, громоздкая и древняя, напоминала артефакт из другого века – будто не снимала, а выхватывала души из потока мгновений.Эмма поправила воротник сына, провела рукой по его непослушным вихрам. «Улыбнись», – шепнула она, но в голосе звучало что‑то большее: «Запомни. Запомни, как бывает светло».
За окном, словно в насмешку, сгущались тучи. Но здесь, в этом странном месте, где время текло иначе, они были защищены – хотя бы на один кадр – от всего, что ждало их за порогом.
Прошли годы… Эмма сидит у окна, и в руках её – словно осколок ушедшего света – старое фото. Взгляд невольно тонет в этих глазах: синих, прозрачных, как горные озёра в ясный полдень. Лучистые ресницы – будто тонкие нити, сплетённые из самого утра, – всё так же охраняют детскую душу, неведомую, непознанную, как далёкая звезда.
Но теперь Эмма видит в снимке то, чего не замечала тогда: тень, едва уловимую, как дым над остывающим костром. Тень, которая легла между прошлым и будущим, между невинностью и знанием.
Как много им придётся увидеть – этим чистым глазам, этой открытой душе. Образы, от которых материнское сердце билось в отчаянной попытке уберечь, уже стучатся в дверь их судьбы. Войны и предательства, утраты и сомнения – всё это ждёт там, за горизонтом детской веры.
Тогда его взгляд светился жаждой познания, стремлением завоевать этот мир, сделать его своим, понятным, безопасным. Он смотрел на неё – и проникал глубже слов, глубже мыслей, прямо в сердце, где теплилась вечная молитва: «Только бы не тронуло. Только бы осталось так навсегда».
Теперь его глаза смотрят дальше. Не только на неё. В них – отблески дорог, которых она не выбирала, вопросов, на которые у неё нет ответов, решений, что придётся принимать в одиночку.
Фото в её руках словно дышит – то ли памятью, то ли предупреждением. Эмма проводит пальцем по глянцевой поверхности, будто пытаясь стереть грядущее, оставить только этот миг: сын, свет, ресницы‑лучики. Но время уже переписало судьбу, и снимок – лишь хрупкий мост между тем, что было, и тем, что неизбежно станет.
Воспоминания о каждом прожитом дне можно наполнить мудрыми мыслями – но ведь это будут лишь тени истин, бесплотные призраки на пергаменте души. «Как сделать свою жизнь мудрой?» – вопрошала Эмма, и эхо её мысли блуждало в сумрачных коридорах сердца.
Неужели лишь через беды, страдания, боль и потери? Она уверовала: иного пути нет. И чтобы не рвать душу на части в безмолвном диалоге с судьбой, Эмма начинала танцевать.
Большая красная юбка взметалась, словно пламя древнего ритуала, очерчивая круги – не просто в пространстве, а в самой ткани времени. Каждый виток – ключ к потайным дверям памяти. Каждый поворот – заклинание, пробуждающее тени минувшего. Юбка кружилась, таила воспоминания, сплетала их в причудливый узор: где миф, где правда – уже не разобрать.
В тот миг, когда вспышка фотоаппарата ослепила Эмму и её сына, она ещё не ведала, что добрая сказка её жизни подошла к концу.
За порогом уже теснились испытания – незримые стражи грядущего, терпеливо ждущие своего часа. Но было и иное. Где‑то в глубине её существа, словно тлеющий уголёк в пепле былых времён, пробуждалось знание. Не словами – ощущениями, переливами света, шёпотом ветра в кронах забытых лесов. Её выбрали.
Звали – не голосом, а вибрацией мироздания, едва уловимой, но непреклонной.Звали туда, где мудрость – не мысль, а действие, не переживание, а преображение. Туда, где боль становится кристаллом силы, а потери – вратами к новой сущности.
Эмма ещё не знала этого пути. Но юбка продолжала кружиться, вычерчивая в воздухе первые знаки грядущей судьбы.
КРУГ «СОН»
Эмма не хотела пробуждаться. Зачем открывать глаза, зачем щуриться, всматриваясь сквозь дрожащую пелену слёз в расплывающуюся под ногами дорогу? Какой смысл?Утро, словно шёпот тысяч душ, осторожно раскрывало миру горную долину. Туманный свет растекался по склонам, оживляя призрачные силуэты путников. Одни шли, озаряя путь улыбками, другие – скалились, будто несли на плечах груз невысказанных обид.
Многие безмолвно плакали, и слёзы их, казалось, впитывались в каменистую землю, оставляя едва заметные влажные следы.И среди этого многоликого потока – один. Он не шёл, он ждал. Его взгляд, пронзительный и настойчивый, пробивался сквозь туман, находил её, звал:
– Пошли, я жду…
– Я не готова, – едва слышно прошептала Эмма, и голос её растворился в утренней дымке, словно последний вздох ночного сна.
Она увидела, как к человеку в холщовой рубахе, стоящему на краю обрыва, медленно тянутся сотни жутких рук – бледных, искривлённых, с длинными, как когти, пальцами. Они тянулись из тумана, из теней, из самой земли, будто сама долина пробудилась, чтобы поглотить его.
Эмма хотела крикнуть, хотела рвануться вперёд, спасти его, вырвать из этого кошмара. Но губы не слушались, горло сжалось, а тело стало неповоротливым, чужим. Она пыталась сделать шаг – и не могла. Пыталась вымолвить хоть слово – и лишь беззвучный стон срывался с пересохших губ.Сердце щемило, будто его сжимала та же невидимая рука, что тянулась к человеку на обрыве. Боль растекалась по груди, заполняя каждую клеточку, превращая дыхание в прерывистые, судорожные всхлипы.
А он всё смотрел. И в его глазах, несмотря на окруживший его мрак, ещё теплился свет – слабый, но упрямый, как последний уголёк в остывающем костре. Свет, который словно говорил: «Я жду. Ты сможешь».
Сон юности… Или не сон вовсе? Эти мысли тихо плескались в душе Эммы, когда память, словно робкая волна, выносила её на берега давно минувших дней.«Как же тепло становилось на сердце от его появления… Даже если это лишь игра воображения, лишь призрачный отблеск былого. Хотя… кто знает?» – с тихим вздохом Эмма нажала на кнопку магнитофона.
Первые звуки буддийской мелодии окутали её, подобно прозрачному шёлковому покрывалу. Мелодия плыла, переплетаясь с воспоминаниями, и Эмма вновь погрузилась в ту реальность, где время текло по иным законам.Солнечное утро. Лучи пробивались сквозь занавески, обещая новый день, но отголоски сна всё ещё держали её в своих нежных объятиях.
Эмма зарылась в одеяло, зажмурила глаза, словно пытаясь удержать ускользающее видение. В этом полусонном состоянии мир казался иным – более ярким, более настоящим. Запахи, звуки, ощущения обретали особую глубину, а сердце билось в такт неведомой мелодии, которую слышала только она.
Она лежала, растворяясь в пограничном состоянии между сном и явью, и в эти мгновения прошлое и настоящее сливались воедино. Где-то там, за гранью реальности, он снова шёл ей навстречу – незримый, но такой ощутимый, будто его присутствие можно было поймать в ладони, как солнечный зайчик.
Мелодия звучала, сплетая воедино нити времени, а Эмма всё глубже погружалась в этот волшебный мир, где мечты обретали плоть, а сердца – способность говорить без слов.
Дышать тяжело – будто воздух сгустился, превратился в вязкий туман, который с трудом просачивается в грудь .
– Это всего лишь сон, повторяющийся сон! – шепчет она, пытаясь унять внутреннюю дрожь.
Слова звучат неуверенно, словно эхо в пустой комнате, где каждый звук множится и теряет силу.Но почему тогда в кулаке так крепко зажата травинка – нежная, с ещё не увядшими прожилками, источающая тонкий, почти забытый аромат луговой свежести? Почему босые ступни ощущают прохладную влагу, словно только что ступали по утренней росе, оставляя на траве едва заметные следы?
Эти осязаемые детали, такие реальные, такие ощутимые, рвут тонкую ткань сновидения. Они словно гвозди, вбитые в зыбкую реальность сна, не позволяя ей раствориться без следа. Эмма разжимает пальцы – травинка падает, но её прикосновение всё ещё живёт на коже, как отпечаток иного мира.
Она закрывает глаза, пытаясь снова ухватить ускользающий образ, но сон уже тает, оставляя лишь горьковатый привкус недосказанности и странное, щемящее чувство, будто она только что потеряла что;то бесконечно важное – то, что нельзя ни назвать, ни вернуть.
…Надо кружиться – безудержно, исступлённо, словно в древнем танце изгнания духов. Забыть всё это, разорвать липкую паутину наваждения, убежать от того юношеского, мучительного сна, что годами томил её душу. Пусть лучше наяву… пусть хоть какая;то реальность, пусть даже горькая, но настоящая. Эмма очертила в воздухе невидимый круг – плавный, почти ритуальный жест, будто проводила границу между мирами.
Сделала несколько странных, рваных движений: то ли отталкивала кого;то невидимого, то ли пыталась разорвать сеть навязчивых мыслей, оплетающих сознание. Её руки взмывали и падали, очерчивая причудливые траектории, словно пытались выткать из воздуха новую реальность.
В последнее время прошлое настигало её всё чаще – не вкрадчиво, как прежде, а настырно, неумолимо. Воспоминания накатывали волнами, заставляя вновь и вновь возвращаться к тем далёким дням. Она словно стояла на пороге покаяния, пытаясь сама себя простить или отпустить грехи, которых, быть может, и не было вовсе. Но в чём же её вина? В том, что жила, как могла – неидеально, неровно, порой сбиваясь с пути? В том, что маялась, металась, верила вопреки всему, искала любовь и счастье, как ищут потерянный свет во тьме? Или, быть может, в том, что выжила – вопреки боли, вопреки разочарованиям, вопреки всему, что должно было сломить её?
Эти вопросы висели в воздухе, как незримые тени, и каждый ответ растворялся, не успев оформиться в слова. Эмма продолжала кружиться – то ли в танце, то ли в отчаянной попытке вырваться из плена собственных мыслей.
«В чём же грех-то, Господи? – тихо вздыхала Эмма, и голос её растворялся в сумраке комнаты, словно просьба, обращённая к безмолвному небу.
– Я всегда верила в покровительство кого-то… Незримого, милосердного, кто следит за нами с высоты, кто замечает каждую слезу, каждый неслышный стон.
Если даже нет ангелов- Хранителей, посланных Тобой, – их следовало бы придумать. Ведь как иначе вынести эту землю, эту жизнь, где радость так мимолетна, а горести тянутся, словно бесконечные тени? Как выдержать груз дней, если не верить, что где;то там, за гранью видимого, есть Тот, кто не отвернётся, кто не осудит, кто просто… есть?
С ними – пусть даже придуманными, пусть воображаемыми – земная жизнь становится хоть немного легче. Словно тонкий луч света пробивается сквозь тучи, словно тёплая рука ложится на плечо в час отчаяния. С ними можно сделать ещё один шаг, ещё один вдох, ещё одно утро встретить – потому что где-то там, в вышине, кто-то помнит о тебе. Кто-то видит. Кто-то ждёт».
Она замолчала, и в тишине её слова повисли, как незримые нити, протянувшиеся к небесам. В этом молчании было больше молитвы, чем в самых торжественных песнопениях, – чистая, обнажённая потребность души в утешении, в надежде, в том, чтобы знать: ты не один.
…Так размышляла Эмма, когда над её домом, словно робкий огонёк надежды, загоралась первая звезда, а могучие горы постепенно растворялись в густом ночном мраке, будто поглощаемые безмолвной вечностью.Она медленно распустила длинные волосы – теперь уже чёрные, как ночное небо без звёзд. В их гладкой, почти зеркальной поверхности не осталось и следа от былого великолепия – буйного рыжего пламени, которое когда-то вспыхивало при каждом движении.
Седина, тихая и неумолимая, словно зимний иней, съела тот роскошный, огненный цвет, оставив лишь память о нём в глубине души. Эмма провела рукой по тёмным прядям, и в этом прикосновении была не только грусть, но и смирение. Вот и приходится довольствоваться самым простым – чёрным. Цвет, лишённый полутонов и отблесков, цвет, не требующий оправданий и объяснений. Цвет тишины, цвет покоя, цвет времени, которое течёт неумолимо, оставляя на всём свой неизгладимый след.
Она подняла взгляд к звезде, всё ещё мерцавшей над крышей дома, и в её глазах отразился тот же тихий свет – слабый, но упрямый, как память о былом огне, что когда;то озарял её жизнь.
Затем она сбросила с ног тапочки – просторные, словно готовые в любой момент уступить место сказочным хрустальным туфелькам. На губах сама собой расцвела улыбка: вспомнились добродушные насмешки подруг: «Ножка;то у тебя ну совсем не золушкина, туфельку тебе и предлагать не стоит!»
В такие моменты Эмма мысленно переносилась в мир сказок – туда, где волшебство случается на каждом шагу, где судьба дарит встречу с принцем, а мечты обретают плоть. Как же ей хотелось хотя бы на миг почувствовать себя той самой героиней, что находит свою судьбу в блеске королевского бала!
«Дело вовсе не в размере ноги», – тихо убеждала она себя, пытаясь укротить щемящую тоску по недостижимому.Но всегда была та, кто вставал на её защиту – бабушка. С лукавой искоркой в глазах она приговаривала, обнимая внучку за плечи:
– Ты – богиня! Чего смущаешься? Высокая, стройная, размашистая… Чего на мелкотню обижаешься? Вот раньше на земле люди под пять метров в росте жили – ты, наверно, из их племени!В этих словах таилась особая магия – не та, что превращает тыквы в кареты, а та, что помогает увидеть в себе нечто большее, чем отражение в зеркале.
И Эмма, слушая бабушку, невольно выпрямляла спину, чувствуя, как в душе разгорается тихий, но стойкий огонь уверенности. Может, она и не Золушка, но в ней тоже есть что;то волшебное – то, что нельзя измерить размером туфли.
Бабушка улыбалась, и её тёплая, чуть шершавая ладонь нежно поглаживала ладошку Эммы – так, словно пыталась передать сквозь это прикосновение всю накопленную за годы мудрость и нежность.
«Эх, бабушка моя ушедшая… – мысленно вздыхала Эмма, и в груди разрасталась тихая, щемящая пустота. – Знала бы ты, как непросто быть видной женщиной! Как коварна порой эта самая красота – будто злой шутник подстроил ловушку. Хочется измазать себя дёгтем, превратиться в уродину, лишь бы скрыться от завистливых взглядов, от шепотков за спиной, от каверз, что люди плетут с изощрённой изобретательностью.
Хочется стать невидимкой, раствориться в толпе, чтобы никто не тыкал пальцем, не оценивал, не судил. Чтобы перестали видеть лишь оболочку, а заглянули бы глубже – туда, где прячется настоящая я: ранимая, сомневающаяся, мечтающая о простом человеческом тепле…»
Но что теперь об этом думать? Всё прошло, отшумело, отгорело – давно было… И всё же память упрямо подбрасывает картины так живо, так ярко, что кажется – это случилось не годы назад, а вчера. Вчера, когда сердце ещё не научилось прятаться за бронёй смирения и иронии. Вчера, когда каждая обида ранила, как свежий порез, а каждая похвала казалась хрупким мостом к счастью.
Эмма закрыла глаза, и на мгновение ей показалось, что бабушка снова рядом – что её ладонь всё так же ласково поглаживает её руку, а в голосе звучит та самая, единственная в мире интонация: «Не слушай их, деточка. Ты – особенная. И это не проклятье, а дар. Просто не все умеют его разглядеть»
....Эмма решительно отмахнулась от навязчивых мыслей о былой красоте – словно отгоняла назойливых мотыльков, бьющихся о стекло воспоминаний. В тишине комнаты щёлкнул выключатель, и пространство наполнилось переливами восточной мелодии – тягучей, как дым благовоний, и глубокой, как бездонные глаза пустыни.
Она накинула поверх ночной сорочки алую юбку – необъятную, словно огненное море, готовое поглотить всё серое однообразие будней. Юбка оживала при каждом движении, вспыхивая всеми оттенками закатного неба. Эмма застегнула её на жёлтую старую пуговицу – ту самую, что чудом сохранилась с детства, став её первой и самой сокровенной драгоценностью.
Пуговица, потёртая временем, хранила в себе отблески давно ушедших дней, когда мир казался проще и ярче.