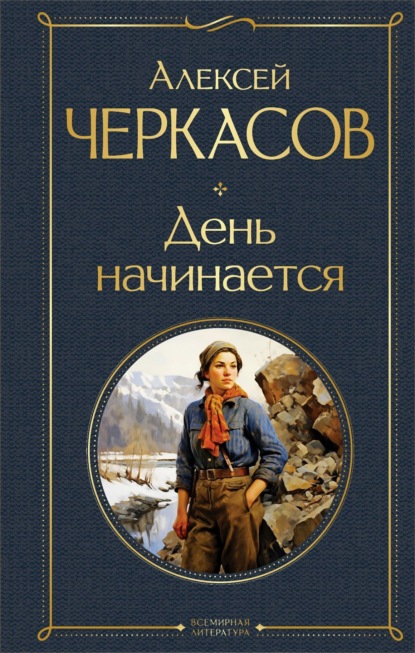© Черкасов А. Т., наследники, 2025
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
* * *
Тому, с кем создана эта книга, – Полине Дмитриевне Москвитиной – ПОСВЯЩАЮ.
Глава первая
1
Ветер гнал тучи…
Все вокруг взвывало, дымилось. Город на Енисее, словно огромная птица, распластав свои мощные крылья по берегам скованной льдом реки, смотрел в мятежную мглу ночи тысячами оранжевых светящихся глаз. Улицы города были пустынны. Не видно было прохожих; автомобили не расписывали мостовые своими узорчатыми шинами; многоэтажные дома по проспекту Сталина, невидимые во тьме, казались призрачными, таинственными: точно каменные стены их растворились в воздухе, и только желтые квадраты окон висели еще над землею, но и они то там, то тут гасли.
Но и в эту буранную ночь жизнь шла своим чередом…
Под крышами заводских корпусов умные руки человека шлифовали торпеды и мины, обтачивали стволы пушек и головки снарядов – все это делалось спокойно, деловито. Инженеры создавали новые конструкции и так же, как всегда, то радовались успеху, то огорчались неудачами.
К городу шел пассажирский поезд из Хакасии. Прощупывая дорогу снопами света паровозных фар, он извивался на изгибах идущего под уклон пути, как огромная трехглазая змея. Поезд пробивался навстречу мраку, ветру и мокрому снегу.
С этим поездом возвращался из разведки отряд геологов.
Геологи занимали предпоследнее купе в общем вагоне. В маленьких, наспех сколоченных ящиках отряд вез с собою образцы рудных минералов и все то подручное, что можно было захватить. На двух верхних и багажных полках всхрапывали рабочие и буровые мастера, в телогрейках, полушубках, бахилах, заросшие и грязные от долгого пути и горных работ. Внизу дремали геологи Муравьев, Одуванчик, Чернявский и Редькин. Матвей Пантелеймонович Одуванчик, поджарый интеллигентный мужчина лет сорока пяти, с птичьим носом и брезгливо поджатыми губами, то дремал, покачиваясь всем корпусом, то вдруг начинал энергично двигаться, осматривать себя со всех сторон, щупать карманы борчатки, охорашиваться, обтирая свое длинное лицо большим клетчатым платком, или начинал говорить, обращаясь к первому, с чьим взглядом случайно встретился в ту или иную минуту. И даже засыпал он как-то сразу, на полуслове. Рядом с ним, развалившись, вытянув ноги по проходу, спал кругленький, осадистый Тихон Чернявский, выдувая носом такие звучные мелодии, что даже Одуванчик вздрагивал.
По правую сторону от Одуванчика, в углу, у столика, занимала укромное место женщина в старенькой шинели. Она точно стеснялась своей рваной солдатской шинели, потому так и жалась в углу, в тени. Руки она спрятала в обтрепанные рукава, воротник подняла, так что и головы не видно было. У ее ног стоял повидавший виды черный чемодан, к коему были прикреплены ремнем какие-то бумаги.
Напротив женщины в шинели, облокотясь на столик рукой, ссутулившись, сидел Григорий Муравьев, в меховой кожаной тужурке с застежками «молния» и таких же меховых брюках, вправленных в болотные сапоги с широкими раструбами голенищ. Он беспрестанно курил, прикуривая одну цигарку от другой. Волосы у него были растрепаны, черные, как смоль, и он их то и дело взъерошивал, тяжело вздыхая. Как видно, думы у инженера Муравьева были не из веселых! Рядом с ним лежал белый овчинный тулуп, лисья красная шапка с длинными ушами, двуствольное ружье с патронташем и вместительный рюкзак на ремнях. У ног его, свернувшись черным комом, дремал здоровущий кобель Дружок, к которому хозяин изредка наклонялся, гладя его по голове. «Да, Дружок, положение наше не из веселых, но стоит ли вешать голову? Будем же мужчинами!» – как бы говорили жесты хозяина и его тяжелые вздохи.
Двухосный старенький вагон скрипел, подпрыгивая на стыках, отчаянно встряхивал, будто в этом и состояло его главное назначение. Матово-мутный свет стеариновой свечи над дверью слабо прорезывал густой сумрак.
За станцией Минино в вагоне зашумели, заговорили, возникла та своеобразная суета, когда пассажиры еще за сто километров до своей станции готовятся к выходу.
– Ну-с, мы, кажется, вырвались из мрака таинственной неизвестности, – заявил Одуванчик, толкнув в бок храпящего Чернявского.
На ящичках проснулся Гавриил Редькин, угрюмый, сутулый человек со сросшимися над переносьем толстыми бровями, косящий на оба глаза, проворчал себе под нос, выругал допотопный вагон со всеми его «архиерейскими» удобствами, а тогда уже, широко зевнув, вытащил из кармана бушлата кисет и, закуривая, топчась возле столика, невзначай наступил на ногу женщины. Та вскрикнула.
– Что вы, не видите, что ли?
– А ты не расшеперивайся! – пробурлил Редькин, свистя толстым висячим носом, словно лез в гору. – Залезли в чужое купе, да еще визжите тут. Важность!
– Вагон общий, – возразила женщина.
– Купе забронировано для геологов. Ясно? Можете опростать место; самим негде сесть. Выгружайтесь.
– Совершенно верно, – поддержал Одуванчик участливым голосом. Трудно было понять, к кому обращены его участливые ноты: к женщине ли или к медвежковатому верзиле Редькину.
Тихон Чернявский, продирая глаза, поднялся с места, подошел к незнакомке, нагнулся, бесцеремонно заглянув ей в лицо.
– Курносая, побей меня гром! – басом известил он. – Кто это нарядил тебя в серую суконку, детка, а?
– Война.
– Война! В точку попала! – захохотал Чернявский. – Ты подаешь надежды, детка. Тятька с фронта на порог – дочка в шинель и айда в дорогу, ха, ха, ха!.. Ну ничего, мы тебя зачислим в нашу партию. Считать до пяти умеешь? Будешь у нас за коллектора отряда, камушки перебирать. Харчей хватит, работенка – не бей лежачего. Выдадим тебе полушубок, сапоги вот с такими голенищами, а там, глядишь, к осени заработаешь на котиковое манто, а то и чернобурку прихватишь.
– Ей лучше бобра, – крикнул Редькин, нарочито пуская махорочный дым в лицо незнакомки.
– А вы меня не окуривайте!
Редькин, не обращая внимания на замечание, затянулся и снова выпустил такой клуб вонючего дыма, что женщина закашлялась.
– Ну, ты брось эти штучки, – осадил Редькина Чернявский, вклиниваясь на лавку между Одуванчиком и незнакомкой. – Что ты так жмешься в угол, детка? Будь смелее! Из какой деревни будешь, а?
– С ленинградской, дядя. – В голосе незнакомки, совсем не детском, слышалась грустная ирония усталого человека.
Одуванчик понимающе хихикнул.
– Теперь все из Ленинграда, – сказал он. – Город легендарный, в доподлинном смысле, как не назваться ленинградкой?
– Похожа вилка на бутылку, – захохотал Редькин.
– Ничего, ее Ленинград впереди, – возразил Чернявский, снова пытаясь взглянуть в лицо незнакомки. – Вот как приедешь в наш город на Енисее, детка, так дуй пешком через Енисей, тут сразу и увидишь Ленинград. Только не забудь Гаврилу пригласить в провожатые. Он у нас геолог симпатичный, обстоятельный: покажет и расскажет, что к чему.
– Пусть ей лешак показывает, но не я, – отрезал Редькин, покидая купе. Следом за ним подался Одуванчик, на ходу сообщив, что буран, вероятно, возник из таинственного теплого циклона, проникшего из-за Каспия на север.
Ветер взвывал за обледенелыми окнами. Вокруг печки-буржуйки в конце вагона толпились дети, женщины с узлами и свертками. Махорочный дым плавал густым облаком, как туман в осеннюю пору над озером.
Муравьев сказал Чернявскому, чтобы рабочие подготовили ящики к выгрузке через нерабочий тамбур, о чем он уже договорился с проводником.
– А подадут нам машину? – спросил Чернявский, царапая в затылке.
– Я же дал телеграмму.
– Хо! Телеграмма! А буран? Ворочает черт-те как! И будем мы до утра торчать на вокзале с ящиками!
Это предложение ввергло Чернявского в минутное раздумье. Но он вовсе не беспокоился о ящиках, а думал о том, встретит его на вокзале строптивая возлюбленная Павла-цыганка или не встретит.
2
Чем ближе подходил поезд к большому сибирскому городу, тем беспокойнее чувствовала себя женщина в шинели. Она то взглядывала в обледенелое окно, к чему-то прислушиваясь, то снова зябко прятала руки в рукава, погружаясь в свои безотрадные думы. Вся она испуганно сжалась в комочек, словно впереди, куда она ехала, ждало ее что-то страшное.
Это ее мятежное состояние удивило Муравьева, он спросил:
– Вы что, и в самом деле из Ленинграда?
– Я? Вы ко мне? – растерянно пролепетала женщина, слегка выдвинув голову из воротника шинели. – Да, из Ленинграда.
Чернявский, распоряжаясь выгрузкой ящиков, посмотрел на незнакомку через плечо, отвернулся и вышел из купе.
– Давно? – продолжал Муравьев.
– Еще в декабре меня вывезли в сызранский госпиталь. А с июня еду…
– Далеко ли?
– Не знаю… Тут сойду, в этом городе. А там, дальше, я еще не знаю.
– Как то есть не знаете? У каждой дороги должна быть конечная станция. Дорог бесконечных не бывает. – Муравьев пожал плечами, близоруко щуря глаза, присмотрелся к женщине, но ничего не высмотрел. – У вас что, родные здесь?
– Ни родных, ни знакомых. Моя семья где-то в Сибири. Мы эвакуировались из Ленинграда. Папа и мама еще в декабре сорок второго выехали машинами через Ладожское озеро. Я – отстала… А тут вагоны, вокзалы… От Уфы наш эшелон направили в Чкалов и там оставили всех ленинградцев… Я… Я… Папа говорил, что если будем эвакуироваться, то выедем в Новосибирск или в этот город. Но в Новосибирске их не оказалось. Вот теперь сюда еду. А тут так холодно…
Слышно было, как ветер завывал и бился в стенки вагона.
– Какой страшный буран! Тут, наверное, всегда такие бураны?
– Зима начинается с буранов, – ответил Муравьев.
– И мороз, кажется?
– Чувствуется, что крепко подморозило. А у вас что, кроме этой шинели, ничего нет?
– Что же у меня может быть еще? – ответила вопросом ленинградка. – И шинель-то чужая. Это мне начальник сызранского госпиталя пожаловал шинель на добрую память. Так вот случилось…
– Где же вы остановитесь в городе?
– На вокзале, верно.
– Вокзал – плохое пристанище.
– Лучше, чем никакого. – И как бы извиняясь, сообщила: – Я так измоталась в дорогах, что сил нет. Дальше я не могу ехать. Я все еду, еду! И все – вагоны, вокзалы. Вагоны, вокзалы. Мне кажется, я всю жизнь еду…
Она повторяла: «Вагоны, вокзалы, и все еду и еду», – словно этими словами определяла и свое душевное состояние, и свое будущее. Муравьев вздрогнул от острой жалости, поняв ее невысказанный, но страшный своей явственностью вопрос: «Что же мне делать дальше?» Голос у нее был приятный, певучий и мягкий. Еще в Ачинске Муравьев даже подумал, что эта женщина села в забронированное геологами купе без билета, потому так и пряталась в тени. Одуванчик даже сел на нее и, когда она подала голос, весьма удивился присутствию женщины «во мраке таинственной неизвестности», извинился и отодвинулся подальше, предусмотрительно положив недремлющую руку на саквояж и чемодан. За станцией Черная Речка Муравьев из чувства сострадания оттеснил было контролера от купе, занимаемого геологами, но незнакомка сама предъявила билет и опять нырнула в угол.
Сейчас Муравьеву захотелось этак невзначай заглянуть незнакомке в лицо, посмотреть, что за девушка, почти всю блокаду делившая с ленинградцами «горе пополам», но от одной такой мысли ему стало стыдно и нехорошо. Какое ему дело? Пусть она будет безобразная, чересчур курносая, но она больше двух лет провела в блокаде, голодала, мерзла, и вот едет в Сибирь в поисках семьи, и, быть может, потому, что она такая скромная, стыдливая и менее пронырливая, чем другие, едет вот так, в битком набитых вагонах, пряча себя и свое лицо, страдает, проклинает от горя фрицев, войну и свою лихую судьбину.
Думая так, хмуря в строгом изломе черные брови, Муравьев закурил и сказал:
– На два-три дня и вам найду квартиру. Я живу здесь. Вообще, я найду вам квартиру, – и вдруг рассердился.
– Зачем? – удивилась и чуть даже будто бы испугалась она. – Я хорошо привыкла и к вокзалам. Нет, нет, не надо.
– Чепуха какая! На вокзале… Здесь вам, знаете ли, не Кавказ и не Южный берег Крыма. Сибирь!
– Я, может, поеду в Иркутск еще.
– В Иркутск? Зачем?
Незнакомка ничего не ответила.
– Так вы и будете ездить по белому свету, пока не умрете в дороге, – невесело усмехнулся Муравьев. – Вам нужно начать самостоятельную жизнь, оседлую, гражданскую, а не искать родичей.
– Я затем и еду в Сибирь, чтобы начать жизнь.
– Тем лучше. Начинайте ее смелее, и все будет хорошо, уверяю. У меня вот тоже ни отца, ни матери, а живу. Отца я совсем не помню: погиб он во время колчаковщины; а мать умерла, когда мне было семь лет. А ничего, выжил. Университет окончил, работаю как все. Правда, все мои родственники – дяди, тетушки и всякие знакомые – здешние старожилы, но скажу вам правду: знакомые и родственники не подставят своих рук, если собственные руки будут висеть вдоль тела, как плети. Первое время, конечно, будут трудности. Да бывает ли жизнь без трудностей? Так что не стоит падать духом.
– Да, конечно. Трудно только начать.
Муравьев глухо кашлянул и, глядя себе под ноги, проговорил:
– Я вам помогу начать.
Незнакомка вдруг сразу выпрямилась, что-то хотела сказать, но завывающий ледяной ветер за окном точно связал ей язык. Она опять сжалась в комочек, зябко втянула голову в воротник, прерывисто вздохнула.
Поезд подошел к станции.
3
На вокзале снег, гонимый бурею, крутился вихрями и лип, как пластырь, на вагоны и пассажиров. На перроне намело сугробы. Сигнальные огни стрелок и семафоров тонули в непроницаемой мгле. Даже водонапорная башня еле вырисовывалась в густой пороше снега.
Незнакомка в шинели сперва хотела уйти в вокзал вместе с пассажирами и там остаться до утра, но вьюга будто прижала ее к земле. Ветер, налетая со всех сторон, обжимал ее рваной шинелью и продувал насквозь. Снегом било в лицо. Ноги, обутые в солдатские сапоги с кирзовыми голенищами, коченели. А вокруг – тьма. Ветер, и ветер, и снег, снег. Ей стало просто страшно, и она инстинктивно жалась к людям в телогрейках и теплых полушубках, выгружающим из вагона тяжелые ящики в автомашину.
– Пошевеливайся, пошевеливайся, – подбадривал рабочих Чернявский. Рядом с ним стояла геолог Павла-цыганка, похожая на большую снежную куклу.
Мороз крепчал.
Грея руки на радиаторе теплого мотора, незнакомка отыскивала глазами того, кто предложил ей пристанище и участие. Он не забыл о ней. Когда пассажиры, толкаясь в проходе, покидали вагон, он подошел к ней, спросил, не наденет ли она его тулуп, но она отказалась. Сейчас она с удовольствием укуталась бы в его тулуп!.. Еще у вагона Муравьева встретила порывистая, вся запорошенная снегом девушка в котиковой шубке и в пуховой шали, с которой он отошел в сторону и разговаривал сейчас, называя ее Катюшей.
Они стояли шагах в трех от незнакомки.
– Ох и ветер же, Гриша, – громко говорила Катюша. – Ты пощупай, как у меня зашлись руки. Просто окоченели. Если бы ты знал, как я тебя ждала этот раз!..
И сердце незнакомки пощипывала грусть: она тоже ждала, и не месяц, не два! Но ей никто не обогреет рук, не скажет ласкового слова…
– А что ты такой хмурый, Гриша? – слышится голос Катюши.
– А отчего бы мне быть веселым? – зазвенел голос Муравьева, тяжелый, насыщенный гневом. – Тут у вас побывал представитель из главка, да? Анна Ивановна писала своему Одуванчику, что мой проект по Приречью положили на лопатки. А вот ты мне что-то ничего не написала.
– Я? – голос Катюши дрогнул. – Я же знала, что ты все узнаешь от Одуванчика.
– Хорошенькое дело! Узнай от Одуванчика через секретаршу начальника, Анну Ивановну, но не от своих друзей. Выходит, друзья до черной пятницы?
– Как ты можешь так говорить мне? – вспылила Катюша, выдернув руки из теплых ладоней Григория. – Что я могла написать? Что представитель главка потребовал для внесения в план работ на будущий год по Приречью – обоснованный материал? А разве ты сам не знаешь, что такого материала у тебя нет? Есть предположения, есть мечты, желания; но не всегда наши желания осуществляются! Ты и сам это прекрасно понимаешь. И зачем ты только настаиваешь на разведке Приречья?
– Вот оно что! Значит, и ты не веришь в Приречье?
– Я там не была, – ответила Катюша.
– Ясно, ясно. «Не была – не знаю: моя хата с краю». Знакомая поговорочка, Катерина Андреевна.
– Если бы ты поменьше выдвигал себя на передний план…
– Конечно! За чужой спиной всегда теплее, Катюша. И ветром не прохватит. Живи, пыхти в свое удовольствие, как говорит Рсдькин. Но я никогда не прятался за чужие спины. Везу помаленьку в передней упряжке.
– Я вижу, ты меня совершенно не понимаешь, – вспылила Катюша. – И понять не хочешь. Помнишь, как мы ссорились на Алтае? Разве я тогда не говорила, что ты не считаешься с мнением товарищей?
– Помню, Катюша, помню. Великолепно помню. Вы тогда хором трещали: Ардын – пустое место. Уйти, поскорее все бросить и перебазироваться. Да, да. Помню! А Муравьев настоял остаться. И Ардын – крупнейший рудник Алтая. Так и с Приречьем…
– Совсем не так, – перебила Катюша. – По Приречью у тебя нет таких данных, как тогда по Ардыну. Ты и сам не веришь, что Приречье – перспективный район.
– Это вы не верите, а я – верю. И Ярморов верит. И Чернявский верит.
– Что, что Чернявский? – прогудел голос Чернявского со стороны.
– Да вот, Катерина Андреевна говорит, что ты не веришь в Приречье.
– Я? Побей меня гром! Да я бы туда с моим удовольствием хоть сейчас поехал. Немедленно, сию минуту.
Катюша зябко поежилась, пряча руки в меховую муфту. Григорий ее не понимает. Они совершенно разные люди. Разве можно вот так замалчивать разногласия? Он просто индивидуалист, и больше ничего.
– Если бы ты мог доказать, что в Приречье есть крупное месторождение металла, давно бы доказал. Но у тебя есть только одни фантазии.
– И слава богу, что я человек с фантазиями, – отпарировал Григорий. – Геолог без фантазии что птица без крыльев. Не летать, не петь, а небо коптить. Да, да! Есть еще такие коптильщики среди нас. И не в малом количестве. А я предпочитаю ошибаться, творить, дерзать, но не жить бескрылым обывателем. И будь покойна, я докажу неверующим, что значит для государства Приречье. Докажу. Не сразу Москва строилась. Надо думать, тоже находились люди, которые доказывали, что не следует строить город на болоте. Из какой-то грошовой деревушки вырос мировой центр! Ты не думала, почему так вышло? Тут не случайность, а мысль заложена. Удачно нащупали центр всей России, вот в чем дело. Так и Приречье. Я смотрю на Приречье глазами завтрашнего дня. Глазами Енисейгэс; глазами электрических огней! Вот покончат с войной, возьмутся за Енисей и Ангару. Еще в тридцать шестом году велись работы по проектированию электростанции на Енисее. А что это значит? Десятки Днепрогэсов! А база? Где же на Енисее промышленная база? Зачем строить гиганты на Енисее, если не будет базы? Не я сказал, что Сибирь – страна будущего. И это будущее настанет через каких-то двадцать-тридцать лет. Вот и я подготавливаю базу для будущего. Где же эта база? Бассейн Ангары и Енисея; Южно-Енисейский кряж. Дебри настоящего, огни будущего. Вот почему мои планы и проекты поддержала Москва. Я буду драться. Драться буду, черт меня подери!
К незнакомке подошел сутулый мужик в коротенькой телогрейке и стеганых штанах, вправленных в серые пимы. Приглядываясь, проговорил:
– И разыгралась же проклятущая непогодь, язви ее. Што, дева, зябнешь? У нас здеся так: ноябрь только нос покажет – зима всю харю высунет. Седне за тридцатку накачало.
– Ч-чего… накачало? – еле выговорила незнакомка, губы у ней будто одеревенели.
– Чего же боле, градусов, грю, накачало. – И пошел дальше.
– А это кто с вами, та, в шинели? – донеслись до женщины в шинели слова Катюши.
– Фронтовичка из Ленинграда, – сдержанно проговорил Муравьев. – Вот приехала, а приземлиться не знает, где и как.
– С какой стати она с вами?
– Случайно. Попала в наше купе. Я ее думаю завести к нашим на квартиру.
– Кто она?
– Я же сказал, ленинградка.
– Ленинградка! – обозлилась Катюша. – Это еще ни о чем не говорит. Мало ли всяких ленинградок! Что, она одна, что ли? – В голосе Катюши послышалась та нота раздражения, которая свойственна только женщине. – Значит, ты решил оказать ей поддержку? Интересно! Она, кажется, еще молодая?
А ленинградка меж тем, не обращая внимания на слова ревнивой Катюши, стояла все так же возле автомашины, неловко сгорбившись и думая о чем-то своем, грустном и далеком. Ей этот падающий снег напомнил другую картину…
Так же рыхлыми хлопьями падал снег на ледяную Неву в марте 1943 года, когда она пробиралась по набережной с сумкой Красного Креста. А на берегу Невы, невдалеке от Дворцового моста, лежал раненый лейтенант флота… Он тянулся к ее рукам. Она под воем снарядов помогла ему подняться и повела в госпиталь. Но лейтенант до того обессилел от потери крови, что едва волочил ноги. В развалинах какого-то административного здания, на груде щебня и кирпичей, она сделала ему перевязку головы и левой руки. Он дышал с трудом и выглядел ужасно слабым – такой большой, и совершенно беспомощный, как ребенок. Она засунула ему руку под гимнастерку и нащупала мокрую нательную рубашку. По хрипам, тяжелому дыханию догадалась, что он ранен в грудь…
И хоть бы кто-нибудь проходил мимо тех развалин! Рядом догорала деревянная постройка, отчего в руинах было светло и по углам метались резкие черные тени. Шел и шел снег. Беспрестанно рвались снаряды на Неве, вздымая к небу фонтаны воды и крошку льда. После перевязки она укутала его шинелью и дала ему немножко спирту. В ее сумке в пузырьке был спирт – всего один глоток. Раненый с жадностью высосал весь спирт из флакончика, закашлялся и, уронив свою большеглазую голову на ее руки, бормотал в забытье о чем-то отрадном, но далеком и не мирском. Неудержимая злоба против войны вспыхнула в ней и комом подступила к горлу. Война надела на нее сумку Красного Креста. Бойка смяла ее девичество, и вот на ее руках умирающий лейтенант флота…
Но она не хотела, чтобы он умер.
Сколько прошло времени в таком положении, она не помнит. Руки ее закоченели, но она знала только одно: ему нужно отдохнуть, собраться с силами, и тогда она дотащит его до госпиталя. И действительно, вскоре лейтенант открыл глаза.
– Золотце, да ты совсем ребенок, – удивился он, присматриваясь к ней своими большими, как будто светящимися глазами. Потом он спросил, где его сумка. Сумка была в ее руках. – Тут ничего особенного нет, в моей сумке, но если я сегодня отдам якорь, оставь, золотце, сумку при себе.
Она обещала сохранить его сумку.
– Вот она какова война, золотце, – продолжал офицер. – Давно ли ты бегала с сумкой в школу…
Она сказала, что она студентка художественной академии.
– Студентка? Помилуй меня грешного.
Совсем близко разорвался снаряд. Со стен посыпалась штукатурка. Под ними ходуном заходила земля, будто живая. Офицер не застонал, но, порывисто приподняв голову, выругался.
– Они еще стреляют, – сказал он. – Да, да, они еще стреляют! Но будут… будут другие дни… Будут! Ты веришь, золотце? – и строго, вопросительно посмотрел ей в лицо.
– Верю. Я верю, – ответила она, инстинктивно закрывая его грудью и чувствуя, как то ли от жалости, то ли от страха слезы горячими струйками покатились по ее щекам.
Он заметил ее слезы.
– Не надо плакать, золотце, – попросил он. – Не надо плакать! Ленинградцы не из слез, а из твердого сплава. А глаза у тебя… агатовые. Вот умру и унесу тебя с собой. Унесу, унесу, золотце! Какие у тебя красивые глаза! Агатовые, агатовые… Унесу, унесу…
И долго еще говорил безвестный лейтенант флота. И когда моряк в третий раз впал в забытье, она вдруг поцеловала его в сухие, теплые губы и с ненавистью посмотрела в мглистую тьму, туда, откуда прилетали вражеские снаряды. Потом подошел патруль, и его унесли. В ее руках случайно остался тяжелый, в кожаном переплете, том сочинений Гете, принадлежавший безвестному лейтенанту флота…
И Юлия хотела еще повидать его, но не знала, где он.
На другой день она зашла в госпиталь на Невском проспекте, и там ей сказали, что вчера, 27 марта 1943 года, во втором часу ночи санитарный патруль доставил в госпиталь лейтенанта-моряка, который вскоре умер. Но тот ли это был лейтенант? Нет, этот моряк был ранен в живот. А где же тот, которого она нашла на берегу Невы? И потом много дней бродила она по Ленинграду без дум и желаний, точно все тепло ее жизни унес с собой безвестный лейтенант флота. Иногда думала, что моряк умер. «Он жив, жив, – твердило ей сердце. – Такие вдруг, сразу не умирают. Но где он? Где? Если бы я знала!..» Ее сердце всякий раз, когда она вспоминала его, наполнялось терпкой горячей болью. Она боялась признаться себе, что любит.
«Почему он говорил мне, что у меня агатовые глаза? – иногда спрашивала она себя. – Это ему показалось. Правда, ночью у меня глаза кажутся черными». И она хотела, чтобы моряк увидел ее глаза днем. Но то, что он никогда не увидит ее глаз днем, пугало ее. Она старалась отогнать эту мысль как вздорную, чужую, мешающую жить. Сомнения и колебания, которые возникали в ее душе, когда она думала о нем, сердили ее. Стараясь уйти от сомнений, она работала до полного изнеможения и все-таки избавиться от тревоги не могла. «Жив ли он? И кто этот моряк? И где он?» Чем чаще ее трепещущая мысль возвращалась к нему, тем ярче он вырисовывался в ее сознании.
В особенно трудные минуты, когда, обессилев от голода, не могла подняться на третий этаж своей нетопленой квартиры, она звала его на помощь. И он приходил к ней с тем же ласковым, умным и добрым взглядом больших светлых глаз, и ей становилось легче…
«А как я буду жить в этом городе? – подумала ленинградка, наблюдая, как ветер гнал мглистую порошу снега и лепил рубчатые барханы сугробов. – Как я буду жить здесь? А если он жив? Тогда… Тогда я его навсегда потеряла. Навсегда! Разве он подумает, что та, которая держала его голову на своих руках, теперь за пять тысяч километров от Ленинграда? А он – там, там, там… Зачем я уехала? Там все меня знали. А здесь…»
Да, ее знали и уважали в Ленинграде. И много-много нашлось бы углов, где она могла бы обогреться в такую взвихрившуюся снегом буранную ночь. «Маленькая, обогрейся», – сказали бы ей там. И те солдаты и матросы, которым она сперва неумелыми руками бинтовала раны, улыбались бы ей добрыми глазами. А тут, в этом городе…
– Что же вы, поедемте? – Муравьев тронул ее за рукав.
– П-поедем? Ку-куда? – выговорила она.
– Пойдемте в кабину, да поживее. Вы, кажется, окончательно замерзли.
Он подвел ее к кабине шофера, где в это время сладко вздремнул Одуванчик.
– А? Что? Приехали? – отозвался Одуванчик на толчок Муравьева. – Освободить место для гражданки? Гм!.. Позвольте, позвольте, Григорий Митрофанович! У меня радикулит, извините. В кузове не могу, никак не могу.
– Никакого радикулита у вас нет, вы здоровее египетского слона! А вот совесть у вас действительно подмерзла. Освободите место для женщины.
Что еще сказал Муравьев Одуванчику, поднявшись на подножку, неизвестно, но Одуванчик выкарабкался из кабины и, жалуясь на грубость Муравьева, протянул руки Редькину, который затащил его в кузов, перевалив через борт, как куль с мякиной. Сам Муравьев сел в конце кузова по соседству со своим Дружком.
Широкобедрая Павла-цыганка, прижимаясь могучим телом к Тихону Павловичу, певуче рассказывала своему другу о недавнем неприятном разговоре с начальником геологоуправления Андреем Михайловичем Нелидовым, отцом Катюши.
– Вызвал он меня в кабинет, – говорила Павла, широко жестикулируя, – садись, говорит. Я села. А он ходит этак из угла в угол и своими черными глазищами на меня зыркает. Ну, думаю, быть беде, а сама сижу себе спокойно, как ни в чем не бывало. «С Чернявским, говорит, гуляешь?» «Гуляю». Он сверкнул глазами, пригнул голову. «А у него, говорит, жена и двое детей. Как же, говорит, ты себе позволяешь подобную распущенность?» Тут во мне будто закипело все. «В чем же, спрашиваю, распущенность, Андрей Михайлович? Или я хвостом верчу перед первым встречным, или как? С Тихоном, говорю, любовь у меня не вчерашняя, не прошлогодняя, а довоенная. Любила Тихона и любить буду, пусть хоть все геологи на дыбки встанут. Я разве, говорю, виновата, если на все управление три парня и те заняты? Что мне, с телеграфным столбом гулять, что ли? Или вы думаете, Павла-цыганка не живой человек? Может только производственный план выполнять? А я имею еще один план: чтоб у меня был сын; собственный сын, вот что! А где его взять, скажите пожалуйста?!» Он, знаешь, даже закашлялся. Я так думаю: на лето он разгонит нас в разные партии.
Тихон Павлович, в свою очередь, теснее прижимаясь к возлюбленной, как бы без слов уверяя ее, что на свете нет такой силы, которая могла бы разогнать их в разные стороны, сообщил между прочим о ленинградке, которую Муравьев пригласил на квартиру, и что он, Тихон Павлович, если бы имел подходящий угол, тоже не остался бы безучастным к судьбе девушки, пережившей все муки земного ада. Павла сразу же угадала недоброе: так вот отчего настроение Катюши Нелидовой резко упало после встречи с Григорием!
– Если бы ты пригласил ее к себе, – предупредила Павла, зло шипя в самое ухо Тихона Павловича, – я бы тебе шары-то выдрала, сом. Куда суешь руки, лешак?
– Да ты что? – очнулся Чернявский, освободившись от приятной любовной мечтательности.
– А ничего. Все вы на одну колодку.
А буран дул. Вихрился колючий снег. Впереди с надрывным ревом, тяжело пробивая сугробы, шли машины. Катюша что-то спрашивала у Одуванчика о результатах разведки в Сычеве, откуда возвращался отряд; богатая руда или бедная, каковы ее запасы, имеют ли они промышленное значение и т. п. Одуванчик добросовестно отвечал на все ее вопросы и внезапно сообщил:
– Та, в кабине, симпатичнейшая особа! Искра, молния. Уверяю вас, – раздельно произнес он, косясь на Муравьева: не слышит ли тот его слов. – Поверьте, Андреевна, моему опыту и глазу. У Григория Митрофановича в доподлинном смысле завязка любопытнейшего романа, м-да. Видите, как он погрузился в думы?
– И что же? Кто она, та ленинградка? – хриплым голосом спросила Катюша, низко опуская голову.
Одуванчик рассказал, что знал.
– Она – интересная?
– Как сказать! Для меня – ничтожество. Если поставить рядом с моей Анной Ивановной…
– Не с Анной Ивановной, а вообще?
– Не сравнивая с моей Анной Ивановной – отвечу утвердительно.
На этом их разговор оборвался. Одуванчик натянул на свои большие оттопыренные уши каракулевый воротник, упрятал птичий нос в шерсть меха и, сладко зажмурившись, предался приятному размышлению о том, как его встретит сейчас жена, Анна Ивановна…