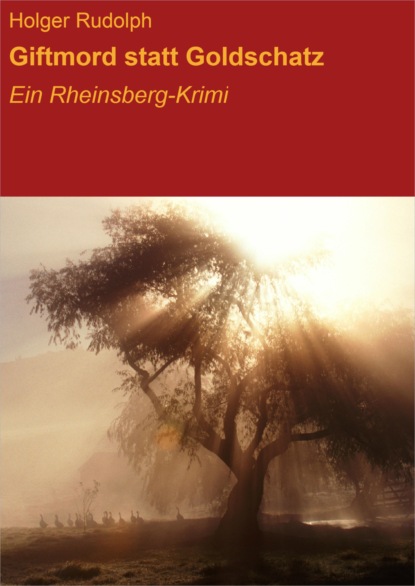- -
- 100%
- +
– Фотиния. Светлана, по-вашему.
– Фотиния Морганова, – медленно сказал бывший хозяин единой квартиры, – на самом деле почти Фата-Моргана или сама фея Моргана. Звуки очень совпадают. И поведение похожее: внезапно появились и внезапно исчезли, подобно миражу или привидению. Вроде призрачной картинки. Одним словом, Даль прав, идёмте, идёмте. Все проходим. – Седовласый, в недавнем прошлом одинокий жилец, сощурившись, оглядел свободную, с переливчатою белизной одежду соседки, словно нарочно дополняющей вид привидения, но не стал о том задумываться.
Целиком вся тройка втиснулась в холостяцкое помещение. Хотя мы не имеем права достоверно утверждать, будто обладатель комнаты уж точно холостяк. Обстановка холостяцкая. Но почему бы не иметь семью, даже ещё одну квартиру поодаль, где точно его многочисленное семейство размещается? (Мы мельком представили множество детишек, мал-мала меньше). А здесь он получает особое удовольствие, вкушая блаженство одиночества в свободное от семьи время? Надо подумать.
Фотиния села первой. По привычке, стараясь не волновать мужчин величиной роста. Она опустилась на прежде выбранное место. Перед тем взглянула на заднюю обложку альбома, где вырисовывался портретик автора, сравнила с оригиналом, недоумённо подняла брови. Затем ею было восстановлено положение альбома ребром вплотную к подлокотнику. И кстати. Потому что из-за свежих впечатлений позабылась основная причина, вдохновившая старых друзей зайти сюда. Дориан, тот, который в молодости был неотличим от Дорифора, сказал «о», тут же достал альбом из узкой щели в кресле между бедром женщины и подлокотником с похожим изгибом. Подержал и подал Далю.
– Авторучку дать?
– Дать. Но погоди. Посмотреть тоже дать.
Автор картин-не-картин, отпечатанных на бумаге, стал перелистывать страницы свежего издания.
– Откуда снимки взялись? – со слабым изумлением вопрошал автор. – Вроде качественные. Смотри, отменно профессиональные. Для того нужен специальный свет, долгая выдержка. Украдкой, по-шпионски, не получится. Таинственное проникновение в дом? Нет. Дочка без меня никого взрослых в дом не пускает. А если бы впустила, то рассказала бы.
– Действительно, никто у тебя ничего не снимал? – Дорифор притом не без тонкого наслаждения отметил про себя, что его-то в дом пустили.
– Нет. Я же говорил. По крайней мере, при мне. Сам я снимал когда-то. Из любопытства. Пробовал. Моих снимков тут нет. Одним словом, вышла какая-то отсебятина.
– А вдруг дочка просто забыла тебе предъявить отчёт о фотографах. Или эти специалисты о том попросили. К примеру сказать: обо мне она поведала? Я же приходил к тебе. Дальше прихожей, правда, не продвинулся.
– Поведала о тебе, доложила. Подробно. Ха-ха. Приходил, говорит, эдакий чудак. Но чего-то испугался. Дочки моей побоялся, да? Боевая девочка, а? Особенно в гневе, скажу тебе по секрету.
– Да ну. Девочка хорошая, отзывчивая, ответственная. А испугался, да, может быть. Но – возможной ошибки. Испугался шальной мысли: вдруг перепутал адрес. Ха-ха.
– Угу. Значит, говоришь, девочка хорошая, а редактор просто знакомый. Или тоже хороший?
– Да. Знакомый, но не близко. И хороший, смотри, вполне приличное издание. Пиратское, но достойное тебя. Шикарные репродукции, – молвил некоего рода тоже репродуцированный античный герой и подал мастеру толстый сочно-зелёный фломастер.
– Ух, ты! – художник слегка отпрянул в сторону контрабаса и локтем задел самую толстую струну, извлекая из неё зычный звук, – потоньше ничего нет? Крупными вещами балуешься.
– Давай, давай, не скупись, подписывай смачно.
– Да чего скупиться, – автор, вступающий на тропу, ведущую к славе, взял пишущий предмет и поверх всей внутренней части обложки крупно написал: «От души – дружеской душе»; и помельче: «Дорогому Дорику».
– Пойду я, – Касьян, ухмыляясь, изготовился на выход. У него зародилось забавное размышление: «Оказывается, востребовано кое-что. Началось. Но слишком ненормально. Кому такое нужно»?
Тут подала голос Фотиния:
– Познакомиться-то мы познакомились, а поговорить не поговорили. С вами поговорить ведь интересно.
– Простите, ради Бога, я домой тороплюсь. Дочка там. Голодная. Растёт ведь, необходимо кушать. А продукты здесь, – он легонько раскачал тяжёлую авоську. Пойду питать наследника. Дорик, возьми, да организуй встречу. Потом. Закрой, кстати, за мной, а то ветер устроит неприятность и у вас.
Дорик прошёл за художником, похлопал его по плечу через порог, запер дверь и вынул ключ. Потом вернулся в комнату, отдал ключ законной хозяйке.
– Он ваш. Значит, мы соседи. А я не понял, – новоявленный сосед рассеянно поглядел по сторонам потолка.
– А вы тоже художник? – спросила новая соседка или старая хозяйка квартиры, оглядывая скульптуры на горизонтальных поверхностях мебели и небольшие картины по не заслонённым обстановкой стенам.
– Нет, работы не мои, а здесь вообще слепки античных фигур. Я только мебель тут слепил.
– И контрабас?
– Угу. Он тоже вроде мебели. Из обломков слепил. Подобрал набор щепок от него и собрал воедино.
– Красиво слепили. Да он сам по себе красавец. Правда, в больших оркестрах почти никогда не солирует, несмотря на доминирующие размеры. Лишь в малой компании на нём позволительно повиртуозничать. Например, в джазе. Он там вообще занимает главенство, потому что держит ритм и гармонию. Настоящий поэт, поскольку в поэзии тоже это главное. А ещё лучше ему чувствуется вообще в отсутствии слушателей, где-нибудь в поле, в лесу или на горе. А иногда здесь, тоже в одиночку.
– Нет, я над ним и на нём давно не тружусь. С тех пор, как склеил и поставил сохнуть. Он лишь очертаниями крупных форм намекает на музыку со значительным смыслом. Тоже вроде поэзии.
– Занятно. Значит, вы столяр.
– Угу, столяр. За столом больше посиживаю, попробовал отшутиться сосед, – значит, подходящее слово – застольник.
– Да, – пропела соседка, медленно кивая головой, нарочито подчёркивая лёгкую иронию в интонации, – вы похожи на столяра и контрабасиста или плотника с той же точностью, что я – на фею Моргану.
– Плотник? Хе-хе. От слова «плоть». В отличие от призрака. Занятные вы даёте определения.
– Да, таковые умельцы всякие случаются… – с таинственностью сказала гостья.
– Случаются. А я действительно был иносказательным плотником.
– Правда?
– Хирургом. Мастером по плоти.
– Вот оно как. А теперь забросили это дело?
– Перестал.
– Не буду вас больше мучить вопросами. Впрочем, один есть. Вы позволите альбомчик взять на вечер?
– Угу, – согласился сосед, – если сподобитесь вернуть по личной инициативе.
– По личной, сподоблюсь, – соседка почти рассмеялась. Сегодня же вечером. Вы никуда не уходите?
– Нет, буду столярничать.
– За столом сидеть?
– Угу, за столом. Застольничать.
– А давайте… ну через часок позастольничаем по-настоящему. Я вас приглашаю. По-соседски. Пусть будет маленькое будто новоселье.
– Да, пожалуй. Столовые дела, как и плотницкие, весьма универсальны. Приду.
– Я вам в стенку постучу.
– Хорошо, буду ждать условного сигнала.
Фата-Моргана взяла альбом «изобразителя» Даля, изготовленный пиратским способом, и ушла в сопредельную комнату, будто скрылась за горизонтом.
– А фотография автора на обложке совсем не похожа на оригинал, – она воротилась и произнесла сию реплику в приоткрытый проём двери, – живой Даль намного симпатичнее.
Затем она исчезла вновь на прежний манер привидения или миража.
Случайно попавший в наше время античный герой впрямь основательно сел за стол. Он подвигал глазными яблоками, остановил взгляд на маленьком участке поверхности. Незадолго до того, мы знаем, там лежали две бумаги с неоконченными письмами, обратившимися в самолётики после чуть ли не опасных перипетий, и благополучно взяли старт у окна. Успешен ли был полёт, удачная ли была посадка? Лежат ли они ещё, слегка припав набок и сохраняя форму? Или сразу же затоптали их тяжёлые ступни ног или ещё хуже – колёса какого-нибудь трактора? Или резвые детишки разорвали их в клочья? Или они, будем надеяться, целые пока, но вскоре попросту станут жертвами дворника? Живое подобие классического ваяния мелко покачало головой, не поддакивая нам и не возражая. А ещё ведь с угла стола упала одна вещица, может быть, значительно более ценная, чем самолётики. Слетел предмет, вероятно, чрезвычайно и жизненно необходимый нашему герою, а то и целому человечеству. Но об этой потере он вроде позабыл или вообще не заметил, а человечество вовсе не подозревало о том. Ныне взгляд героя без помех продвигался вперёд по собственным двум осям – до бесконечных глубин бескрайнего окружения, не заботясь о фокусировании. «Любопытно», – подумал он, – «стереоскопическое изображение бесконечности отличается от моноскопического»? Исследователь попеременно смежал веки то одного, то второго глаза и подержал отворёнными их оба, целеустремлённо посылая взгляд в бесконечность. При взгляде двумя глазами бесконечность оказывалась ближе.
Новенький тупозадый «Peugeot» нёсся по улице. Внутри него, одинаково чуть-чуть вобрав головы в плечи, разместились относительно молодые люди: две красавицы, а гоже заметить, красотки, пожелавшие стать еще прекрасней да милей, и владелец их, округлый, тугого склада мужчина (внешнего вида). Нёсся автомобиль, потому что по воле безотчётного повелителя постоянно шёл на обгон, устойчиво набирая и набирая скорость, да ни капельки не сбавляя оной. Возможно, такой сложился обычай у водителя «Peugeot»: копить всё попадающееся под руку. Сейчас это скорость, а до того – разные иные вещицы, о которых мы не знаем, кроме самой машины и двух женщин. Какая разница. Главное – хватать да набирать. Собственник без имущества – всё равно, что петух без куриного гарема. И всякий владелец без прироста имущества – всё равно, что ростовщик без клиентов. Делая очередной вираж, послушное водителю авто выпрыгнуло на красный сигнал светофора и, спасаясь от поперечного движения, резко отогнулось в сторону, по-прежнему, не снижая набранной скорости. Водитель чужих жизней немного, однако, промахнулся в расчёте, несмотря на способности в арифметике (без арифметики невозможно суммировать и умножать вещи да властное обладание). Сразу же его угораздило попасть прямо в решётку ограждения набережной. Та, будь и чугунною, не сдержала тонкой жести, обогащённой богатством набранного скоростного натиска, вот и пропустила сквозь себя в открытое ложе реки новенький «Peugeot» с дымчатыми окнами. Тот раскрутился в полёте, накренился и левым боком вошёл в воду, подобно острому ножу. Без брызг, словно в торт. Вся компания, размещённая внутри него и сообща с ним, так и рухнула в Фонтанку. Редковатый народ быстро высыпал на берег, поглядеть дальнейшее представление, соображая набегу: «Надо же, наяву, а не по телевизору». А в дальнейшем из воды одна за другой предстали две головы испуганных женщин в обрамлении всплывших подолов юбок наподобие блюдечек. Ещё в дальнейшем, они самостоятельно и не без нервной перебранки с воплями доплыли до берега, оставляя за собой расширяющиеся хвосты всклокоченной водной поверхности. По счастью, гранитный спуск оказался рядышком, и несостоявшиеся утопленницы смогли вылезти на сушу без чужой помощи. С юбок обильно стекала вода, отдалённо напоминая фонтан-колокол в Нижнем Петергофском парке. Не оборачиваясь, обе женщины, то есть, бывшие красотки быстро удалились от самого страшного места в городе, оставляя за собой продолговатые лужицы. Не прямо бежали, не фронтально, а несколько бочком, очень похоже на недавнее удаление от аптечного киоска. Их лица оклеили патловидные волосы, под которыми виднелась размытая косметика наподобие акварельного опуса «по-сырому». И страх, – настолько исказил те бывшие молодые лица, насколько не могли бы воздействовать на них долгие годы трудовой жизни где-нибудь в тундре или пустыне. Нелегко теперь предположить о величине их природного возраста. И, будто назло, приобретённый ими в аптечном киоске экстракт из молодильных яблочек, уместный именно теперь, остался на дне одной из сумочек в утопшем «Peugeot». Пока дамочкам не до омоложения и вообще не до яблочек. Впрочем, эти мокрые женщины, покрытые повреждённой красотой, уже скрылись за пологим поворотом набережной, оставив городскую сцену подле Фонтанки пустой. Больше живых людей из-под воды не выныривало. Под ней, до предела разумного восприятия, уверенный в себе водитель убеждал себя непоколебимой правотой, поэтому пока не всплывал и не выплывал, будто его не было на дне. Да и женщины твердым, безоглядным поведением дали понять, что под водой действительно больше никого из людей нет, и спасать совершенно некого. Поверхность реки обрела обычный для себя равномерно рябой вид. Прошло время, ещё время, ещё пол-времени, а, ставший одиноким, водитель всякого подвластного ему движимого имущества так и не нарушил водную поверхность более крупными волнами. Это если бы вынырнул, то нарушил бы. Но, похоже, канул бедолага под ней совершенно безвыходно. Наверное, из-за упёртости своей и чистой машинальности.
«Peugeot», подчиняясь элементарной механике, тем же левым боком, за которым рулил бывший господин окружающего мира, смачно увяз в густом илистом дне давно не чищеного русла. Механическое изделие повело себя нагло и уверенно, уподобившись повадкам повелителя своего, то есть, не желая считаться ни с кем и ни с чем, кроме силы притяжения. Для машины, у которой как раз тяга выступает на первый план, в общем, поступок предвиденный. Она с уверенностью заклинилась в мягком донном грунте вместе с упакованным в себе водителем, заполнив левый бок всякими водорослями вперемешку с диковинными вещицами, порождаемыми городской цивилизацией, и более ничего ей не было нужно. А бравый молодец, умеющий постоять за прибранное добро, – себя спасти был не в силах. Оставшись в одиночестве, в отсутствии даже ничтожного имущества для самовыражения, но удушаемый изобилием речных донных сокровищ, не обнаружил он в закромах жизненного состояния ни единого навыка избавления от неприятности. Уподобляясь женскому полу, то есть, имея одну из женских черт характера, известную нам, благодаря сценке у аптечного киоска, да и ту не самую лучшую, – по-видимому, не обладал он иными, по-настоящему крепкими инстинктами этого пола, а именно, безоглядным стремлением выжить, во что бы то ни стало. И не выжил. Однако народ о том не знал ничего и принялся расходиться, быстро забывая не столь для него значительное происшествие, потому как чужая беда ничем никого не коснулась. Каждый переключил мысленный телевизор на другой канал.
Глава 7. Труд
Торопящийся к дочке Даль, Касьян Иннокентьевич, приостановил скорую ходьбу подле своего дома на другой стороне улицы и по обыкновению взглянул вверх на необычные окна. Для внешнего наблюдателя, конечно, проёмы в стенах архитектурного сооружения различия между собой не имеют. Ни по большому счёту, ни по малому. Тем паче днём, когда за ними ничего толком невозможно разглядеть. Но взгляд Касьяна Иннокентьевича без труда выделял среди рядов и столбцов окон – особые, непохожие на любые другие. Он мгновенно угадывал именно эти три окна. Взгляд сам безошибочно выхватывал их из довольно обширного фасада. От них шло только ему и дочке заметное тонкое тепло. Впрочем, не знаем, вдруг есть на свете другие замечательные люди, в том числе сторонние наблюдатели, способные уловить необыкновенное качество оконного излучения, но, к сожалению, нам они пока не попадались. Три остеклённых прямоугольника с переплётами стиля модерн в камне стены, будто щедро отпускали на волю особенную волнующую сущность. А в одном из этих редкостно живых окон взгляд художника встретился со взглядом дочки, прильнувшей к стеклу изнутри. Тоже по обыкновению. Та улыбнулась и коротко помахала одной ладонью. Касьян Иннокентьевич подвигал рукой перед собой. Им нравился привычный ритуал. Он придавал настроению чуток доброго волнения, чем-то родственного таинственному оконному излучению. Дочка и папа начали помахивать друг другу руками чуть ли не с её грудного возраста. Ежедневно, уходя из дома, Даль оборачивался на необычные окна и видел дочку в крайнем правом. Она быстро-быстро махала ему рукой, а он отвечал тем же. Оба весело и ярко улыбались. А когда Касьян Иннокентьевич возвращался домой, бывало в разное время, дочка обязательно показывалась в том же окне. Будто весь день от него не отходила. Всегда угадывала момент возвращения. И в данный миг многолетний ритуал встречи на отдалении неизменно состоялся.
– Назагоралась? – поинтересовался Даль, отворив дверь в дом и завидев дочку, одетую в джинсы и футболку.
– Когда мне загорать, – еле слышно возразила девочка, – весь день работала, будто каторжная.
– Ага, это ладненько, что работала. Но без каторги. Каторжная работа настоящим делом не является. Человеку труд выдан в потребление неспроста. Свыше. Труд ему дан, чтоб через него прозреть и увидеть белый свет, а в нём разглядеть Создателя. Дело обязано быть благодарственным. А каторга, она выдумана, чтобы унизить. От униженности она. И выдумана как раз людьми низшими, презренными, которые власть имеют, вернее, заимели, в смысле зажулили. Каторжная работа является неблагодарственной, а с точностью наоборот, скорее озлобленной…
– Но я Дорифора рисовала. – Девочка решила на всякий случай оправдаться. Она, по-видимому, не до конца поняла реплики отца. Или вовсе не постигала слов, благодаря давно утвердившейся привычке. Попросту говоря, дочка не предполагала ничего понимать. – Он ведь не создатель какой-нибудь. И вообще не бог.
– Угу. Просто – красавчик-копьеносец. Не Зевс или Гермес или Аполлон. Может быть, он – стилизованный сильный герой прошедшего времени. Даже непременно герой, причём собирательный, потому что древние греки портретов людей не создавали, кроме, кажется, Перикла. Но я ж не о них сказал.
– А о ком?
– Да. О Ком. О Том, Который настоящий, и находится кругом, куда мы смотрим. Ну, не Сам. Я говорю в переносном смысле. Его присутствие находится всюду в незримом отражении. Или печати. Все живые и, так называемые, неживые предметы, отражают Создателя. Везде в мире наложена Его печать. А для того чтобы увидеть то, куда мы будто бы смотрим, увидеть настоящую печать, настоящее отражение, надо хорошо потрудиться. По причине тяжкого, но благодарственного труда получается мало-мальски примерное приближение взглядом к окну, раскрытому в вечность. Сперва становятся зримыми отражения, печати, а потом Сам Он, если, конечно, это окажется позволительным.
– А я ничего такого не увидела. Целый день трудилась, хорошо трудилась, и всё насмарку. Значит, была каторга? А чьё это наказание, за что? – Дочка Даля выбирала отдельные слова из папиной мини-лекции, выстраивая из них неясный смысл. Привычно. У неё давно сложилось обыкновение не вникать в любое значение папиных объяснений.
– Ладно, беды тут нет. Не обязательно сразу выдать шедевр. Ты ещё пока маленькая, – говорил отец, глядя на дочь снизу вверх. – Сейчас покушаем, легче станет. Держи авоську. И смекни что-нибудь съедобное. Потрудись. Но, уговор: не каторжно. Ладно?
Девочка приняла из рук отца полиэтиленовый мешок и удалилась на кухню, шлёпая босыми ногами. «Не каторжно, это с охотой», – думала она, – «а коли охота есть, в смысле, поесть, то и охота готовить еду тоже появится. И никакой тебе каторги». Проводя свежие философские параллели, не имея в виду обнаруженного кем-нибудь второго смысла, более обобщённого, она вынимала из пакета продукты на кухонный столик подле раковины. Но мысль, тем не менее, без сопротивления развилась: «А звери всякие не готовят себе еду; просто едят уже готовую или добывают, не трудятся; может быть, поэтому у них нет мысли о том, кто их создал; удача только им нужна, уф, одна-одинёшенькая, но совершенно необходимая; хм».
– Папа! – крикнула она из кухни, – я поняла. Звери не трудятся, вот никогда и не видят никакого создателя.
– Да, да, – отозвался папа, отметив способность дочери к эвристическому мышлению. В то же время голова загружалась думами иного толка. «Альбом, публикация, известность. Значит, наконец, оказался кому-то нужным. А мне это надо? Не знаю.
Нельзя сказать, будто Касьян Иннокентьевич взволновался книжной новостью. Раньше, допустим, восхитился бы, даже сон мог потерять. Но в настоящее время он испытывал скорее досаду. Неведомая кислота или щёлочь слегка разъедала внутреннее содержимое ёмкости в центре груди. Горело чуть заметно. Слабенько жгло. Недавно возникшее ощущение себя вообще человеком невостребованным, ощущение, ставшее обыденным, вступало в конфликт с новостью о грядущей маломальской популярности, сопровождающейся ощущением, как раз, неизвестности. Когнитивный диссонанс, одним словом.
– Папа, – снова раздалось со стороны кухни, – а ты-то хорошо трудишься?
– Не знаю, дочка, просто работаю.
Папа не стал признаваться дочке в том, что уволен с обеих работ. Или Его Высокопреосвященство недооценил труды папы, или, как говорится, настучали недруги, мы не знаем. А с преподавательской должности, которая по совместительству он, кажется, уволился «по собственному желанию». Но мы уже отметили: неглавные они для него. Лишь уводят, отклоняют от пути истинного.
– Чтобы деньги получать? – продолжала вопрошать девочка со стороны кухни.
– Что?
– Трудишься за деньги?
– И за деньги тоже. Кормиться же надо. И вещички, необходимые для проживания, приходится стяжать. И для работы – нужны деньги. Кисточки, краски, холсты-бумаги, дрова, то бишь рейки, из которых подрамники делаю, лаки, гвозди и пэрэ, и пэрэ. Для того чтобы иметь возможность работать, необходимо иметь деньги. Такой у нас парадокс.
– Ага, ты работаешь за деньги для того чтобы работать бесплатно.
– Твой вывод не лишён разумности.
– А картины, почему не продаёшь?
– Дочка, ты не отвлекайся от полезного делания на кухне. И потом, это не разговор – на расстоянии, не видя друг друга. Будто по телефону. Так нешуточные беседы не ведутся.
И папа, стоя вплотную перед листом ватмана, обнаружил вдруг для себя рисунок дочки. Правда, ещё не законченный.
– О! – почти подпрыгнул он, – Ты это сегодня сотворила?
– Это? – дочка вышла из кухни, держа в руке не дочищённую картофелину. – Это да. Плохо?
– Старалась, небось.
– Старалась.
– Оно видно. Ну, пока даже хорошо. Пусть заметно старание. Потом, когда руку набьёшь, оно перейдёт в навык, а дальше обретёшь естественность. Вроде речи. Ведь ты не стараешься произносить звуки. Они даже без твоего ведома слетают с языка.
– Смотря, какие. Иногда тоже постараться нужно. А ты скажи, сколько же придётся работать, стараться, чтобы потом вышло, вроде звуков с языка.
– Точно определить не берусь. У кого само получается и сразу, а кому всю жизнь потратить надо. Но бывает, и чаще всего, самые дерзкие старания не помогают. Это когда не дано, а человек предполагает в себе искру Божью. Но, говорят, некие особого рода старания много чего преодолеть могут. Если их превратить в образ жизни.
– Угу, – дочка опустила руку с картофелиной, а потом тут же подняла её на уровень глаз. – Вот и картошку чистить, тоже навык нужен. – Она вздохнула. Тяжёлое чувство прорвалось у неё вместе с выдохом: то ли по поводу текущей кухонной работы, то ли в нём предвиделись длительные предстоящие старания на поприще рисовального искусства.
– Нужен, дочка, нужен. Ступай, старайся.
– Да, ну и жизнь у меня. Сплошные старания. – Дочка скрылась за углом стены. На кухне послышался резкий звук воды, избавляющейся от заточения в трубопроводе.
Отец вошёл на кухню и сказал.
– А знаешь, ты права.
– Ну да, если мне стараться, так я права, а если тебе, так не прав никто.
– И то верно. А я о другом тебе доложу. Сегодня ведь, кажется мне, заходил сюда старый мой приятель. Ты же говорила, он ко мне заходил. И земельку внёс. А мы не узнали друг друга. Даже не старались узнать. Заняты были слишком чем-то важным. Куда там до естественности. Если бы, к примеру, существовало в нас умение непосредственного выявления любого отличия и, конечно же, благодаря тренировке старанием, то мы вообще всё бы узнавали с ходу. А мы нигде не останавливаемся с целью войти мыслью в озираемую округу. Обязательно съезжаем. Поэтому даже старых знакомых не горазды разглядеть. Тут настоящая беда. А он и соседку по квартире не узнал. Такую приметную.
– Папа, это погода сегодня особая, – девочка по-прежнему не принуждала себя вникать в смысл папиных размышлений. – Давление меняется. Атмосферное. Или вообще магнитная буря.
– Буря, говоришь? – папа взглянул на толстую и шумную струю воды из-под крана. – Ты краник-то прикрой, а то вон, циклоны бурлят в раковине.
Дочка покрутила колёсико крана, и струйка воды сделалась тонкой, с пунктиром перед полным пропаданием в остатке водоворота. Затем, вместе с исчезновением слоя воды, раздался звук вроде смачного поцелуя, и тихонько задребезжала дробь от ударов капель о металл.