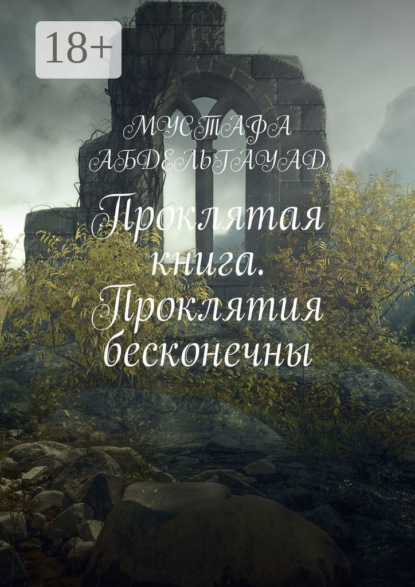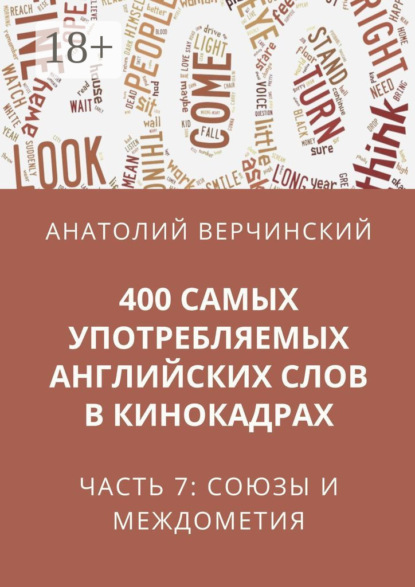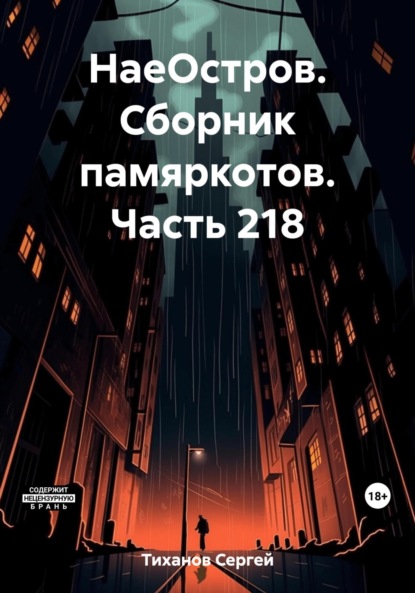На крючке дофамина
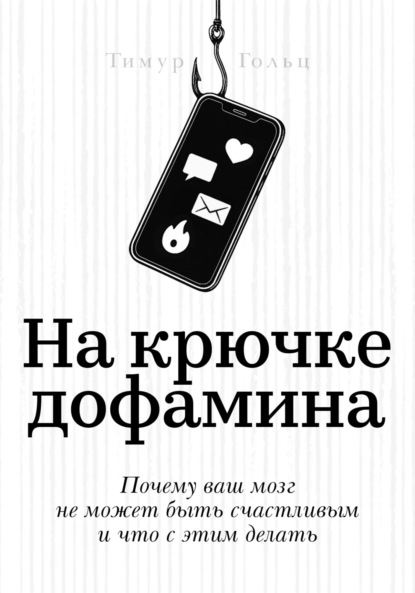
- -
- 100%
- +

Издается в авторской редакции
Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена ни в какой форме и никакими средствами без письменного разрешения владельца авторских прав.
© Тимур Гольц, текст 2025
© AB Publishing, 2025
* * *Введение. «Ты живёшь в раю – и жалуешься?»
Меня зовут Тимур, и я, как и вы, живу в современном мире. У меня есть всё, о чём мечтали поколения людей до меня. Еда появляется по одному клику, любой фильм или сериал доступен мгновенно, я могу связаться с любым человеком на планете за секунду. Мой смартфон знает обо мне больше, чем я сам: что я ем, сколько шагов делаю, какое у меня настроение, и даже когда мне лучше ложиться спать.
Вроде бы рай. Но почему же я чувствую себя так, будто живу в аду?
Каждое утро я просыпаюсь уставшим, хотя сплю по восемь часов. Завтракаю, листая новости, и уже через полчаса чувствую тревогу от того, что происходит в мире. Иду на работу, где решаю задачи, которые кажутся бессмысленными. Вечером включаю сериал, чтобы расслабиться, и засыпаю перед экраном, так и не получив того удовольствия, которого искал.
Я не одинок в этом. Мои друзья жалуются на то же самое: постоянную усталость, апатию, неспособность радоваться тому, что раньше приносило счастье. Мы живём в эпоху, когда депрессия и тревожность стали нормой, а не исключением. Мы окружены развлечениями, но скучаем. У нас есть доступ к любой информации, но мы чувствуем себя потерянными.
Что происходит с нами?Ответ кроется в химии нашего мозга. Точнее, в одном нейромедиаторе под названием дофамин. Раньше учёные считали, что дофамин отвечает за удовольствие. Теперь мы знаем: он отвечает за желание. За стремление. За то «хочу ещё», которое заставляет нас тянуться к телефону каждые пять минут.
Наш мозг эволюционировал в условиях дефицита. Пищи было мало, развлечений не было вообще, а любое удовольствие требовало усилий. Дофаминовая система развилась как механизм выживания: она мотивировала наших предков искать еду, партнёра, безопасность. Она говорила: «Там что-то хорошее, иди и возьми это».
Но сегодня мы живём в мире, где этого хорошего слишком много. Социальные сети выстреливают дофамин каждый раз, когда мы получаем лайк. Приложения доставки еды обещают удовольствие за 30 минут. Стриминговые сервисы держат нас в напряжении, заканчивая каждую серию на самом интересном месте.
Наш мозг не понимает, что происходит. Он думает, что мы всё ещё в каменном веке, где нужно хватать всё подряд, пока есть возможность. Он выделяет дофамин не тогда, когда мы получаем удовольствие, а когда его ожидаем. И чем больше мы получаем, тем больше хотим.
Перегрузка удовольствиемСовременная индустрия развлечений знает об этом. Каждое приложение, каждая игра, каждый сайт разрабатывается с одной целью: захватить и удержать наше внимание. Целые команды нейропсихологов работают над тем, чтобы сделать свой продукт максимально «липким». Они изучают, как работает наш мозг, и используют эти знания против нас.
Результат? Мы живём в состоянии постоянной стимуляции. Наша дофаминовая система перегружена. Она как мышца, которую слишком долго держат в напряжении – в итоге она перестаёт работать правильно.
Это объясняет, почему мы чувствуем себя несчастными, имея всё. Почему простые радости – прогулка, разговор с другом, хорошая еда – больше не приносят удовлетворения. Почему нам постоянно хочется «ещё»: ещё одну серию, ещё одно видео, ещё один свайп.
Мы застряли в дофаминовой яме.
Разговор с прошлымИдея пришла неожиданно. Я сидел в кафе, пролистывая ленту соцсети, когда наткнулся в одном посте на старую фотографию. На ней – группа рабочих конца девятнадцатого века в грубой одежде, с мозолистыми руками и спокойными лицами. Что-то в их взглядах зацепило меня. Они выглядели… умиротворенными. Не радостными, не грустными – просто живыми. По-настоящему живыми.
И тут меня осенило: а что, если мы могли бы поговорить? Что бы они сказали о моей жизни, где есть всё, но нет покоя? Как бы они отреагировали на мир, где люди жалуются на скуку, имея в кармане доступ ко всем знаниям человечества?
Я закрыл телефон и представил себе этот разговор. Не как фантазию, а как реальный эксперимент. Что, если в недалёком будущем технологии подарят нам возможность общаться с людьми из прошлого – не в буквальном смысле, конечно, но с достаточной точностью, основываясь на исторических данных, семейных воспоминаниях и передовых симуляциях сознания?
Я выбрал одного из них, рабочего с металлургического завода, Николая Семёновича. Это человек, который никогда не слышал о дофамине, не знал, что такое смартфон, и для которого скука была естественной частью жизни. Именно с ним я и решил «поговорить» – используя всё, что знал об эпохе конца девятнадцатого века, историческом контексте и собственном понимании человеческой природы.
Я хотел понять: как люди находили радость в мире, где не было постоянной стимуляции? Как они справлялись с тишиной? Что заставляло их чувствовать себя живыми?
То, что я узнал из наших разговоров, изменило мою жизнь. И я надеюсь, что изменит и вашу.
Что такое дофаминовая яма?Дофаминовая яма – это состояние, когда наша система вознаграждения истощена от постоянной стимуляции. Мозг привыкает к высокому уровню дофамина и требует всё больше для получения того же эффекта. Одновременно он теряет способность радоваться простым вещам.
Симптомы знакомы многим:
– Постоянная усталость без видимых причин
– Неспособность сосредоточиться на одной задаче
– Потеря интереса к хобби и увлечениям
– Постоянная тревога и беспокойство
– Прокрастинация и отсутствие мотивации
– Зависимость от внешних стимулов для получения удовольствия
Но главное – это ощущение, что жизнь проходит мимо. Что вы существуете, но не живёте.
Для чего эта книга?Эта книга – не призыв отказаться от современности и уехать в деревню. Не инструкция по цифровому детоксу и не очередная методика продуктивности. Это история о том, как найти баланс в мире, который специально создан для того, чтобы лишить нас этого баланса.
Через диалоги с Николаем Семёновичем я понял: проблема не в технологиях. Проблема в том, как мы ими пользуемся. Не в том, что у нас слишком много возможностей, а в том, что мы не умеем выбирать. Не в том, что современная жизнь плоха, а в том, что мы забыли, что значит быть живым.
Эта книга поможет вам:
– Понять, как работает дофаминовая система и почему она даёт сбои
– Увидеть ловушки современного мира и научиться их обходить
– Найти способы восстановить чувствительность к простым радостям
– Создать свой собственный план выхода из дофаминовой ямы
Но главное – она покажет вам, что счастье не в том, чтобы добавить что-то новое в свою жизнь, а в том, чтобы убрать лишнее и заметить то, что уже есть.
В каждой главе будут фрагменты нашего разговора с Николаем Семёновичем. Он человек простой, но мудрый. Он не знает научных терминов, но понимает жизнь. Он жил в мире, где радость нужно было заслужить, а скука была не врагом, а естественной частью существования.
Иногда он будет удивляться нашему миру. Иногда – смеяться над нашими проблемами. Но всегда – задавать вопросы, которые заставят вас взглянуть на свою жизнь по-новому.
Готовы начать? Тогда представьте себе небольшую комнату, где время и пространство теряют смысл. Там нас ждёт человек, который может научить нас тому, что мы забыли: как быть счастливым, не гонясь за счастьем.
Глава первая. «Ты говоришь, у тебя внутри химия?» – о науке, которой нет в кузнице
Когда я впервые попытался объяснить Николаю Семёновичу, что наше настроение зависит от химических веществ в мозге, он посмотрел на меня так, будто я рассказывал сказку про Бабу-ягу.
– Ты говоришь, у тебя в голове химия какая-то? И она решает, чего тебе хотеть? – недоверчиво почесал он затылок.
– Не совсем так, – попытался я объяснить. – Просто наш мозг работает благодаря разным веществам. Дофамин – одно из них. Когда его много – мы активны, стремимся к цели. Когда мало – нет сил, нет желаний.
– Значит, раньше, когда я шёл к девке Марфе свататься, во мне это самое… дофамин… взыграл?
– Именно! Вы чувствовали волнение, предвкушение, желание её завоевать. Это и есть дофамин в действии.
Странно было наблюдать, как человек из прошлого пытается осмыслить то, что для нас стало азбукой нейробиологии. Но его непонимание помогло мне увидеть абсурдность ситуации: мы знаем о механизмах счастья больше, чем любое поколение до нас, но при этом несчастнее, чем когда-либо.
За последние десятилетия нейронаука совершила настоящую революцию. Мы расшифровали химический код эмоций. Дофамин, серотонин, норадреналин, эндорфины – эти названия сегодня знает каждый, кто хоть раз читал статьи о психологии в интернете.
Дофамин называют «гормоном счастья», хотя это не совсем точно. Он скорее отвечает за мотивацию, за желание действовать. Серотонин влияет на настроение и социальные связи. Норадреналин – за бодрость и концентрацию. Эндорфины дают ощущение блаженства и обезболивания.
Но знание этих механизмов вместо освобождения принесло новый вид рабства. Теперь мы не просто хотим быть счастливыми – мы знаем, какие кнопки в мозге нужно нажать для получения удовольствия. И что самое опасное – это знание используется против нас.
Почему мозг гонится не за радостью, а за её обещаниемГлавное открытие нейробиологов заключается в том, что дофамин выделяется не когда мы получаем удовольствие, а когда его ожидаем. Представьте: вы видите уведомление о новом сообщении в телефоне. Мозг уже выделяет дофамин, предвкушая возможную радость от прочтения. Но чаще всего сообщение оказывается рекламой или пустой болтовнёй. Удовольствия нет, а дофамин уже потрачен.
Этот механизм развивался миллионы лет. Нашим предкам он помогал выживать: увидел ягодный куст – получил мотивацию подойти и сорвать ягоды. Услышал шум воды – пошёл искать источник. Дофамин был топливом для исследования и добычи ресурсов.
Но современный мир взломал эту систему. Реклама, социальные сети, игры – всё это эксплуатирует механизм предвкушения. Нам постоянно обещают удовольствие, которое никогда не приходит в полной мере.
– А что, все в твоё время такие же? – спросил Николай Семёнович, когда я объяснил ему эту схему.
– Многие. Особенно молодые. Мы называем это депрессией, тревожностью, выгоранием. Но, по сути, это истощённая дофаминовая система.
– Депрессия… Это когда человек в тоске? У нас таких называли хандрящими. Но они обычно от горя какого или от безделья. А у тебя горя вроде нет…
– Вот именно. Горя нет, а тоска есть. Потому что мозг перегружен.
Ненасытность как новая нормаВ естественной среде дофамин срабатывал эпизодически. Нашёл еду – получил награду. Построил укрытие – почувствовал удовлетворение. Между этими моментами были паузы, во время которых система восстанавливалась.
Сегодня паузы исчезли. Наш мозг находится в состоянии постоянного возбуждения. Утром – уведомления в телефоне. По дороге на работу – подкасты и музыка. В обед – просмотр социальных сетей. Вечером – фильмы и сериалы. Даже в туалет многие ходят с телефоном.
Дофаминовая система, которая должна мотивировать нас к полезным действиям, превратилась в механизм бесконечного поиска стимуляции. Мы стали наркоманами собственных нейромедиаторов.
Особенно опасны непредсказуемые награды. Казино знает этот принцип уже сотни лет: если выигрыш происходит случайно, а не по расписанию, привыкание развивается быстрее. Социальные сети работают по тому же принципу. Вы не знаете, какой пост или рилс увидите следующим – скучный или интересный. Эта неопределённость заставляет листать ленту снова и снова.
Что движет нами изнутриСовременная нейробиология выделяет два типа мотивации. Первый – стремление к удовольствию. Это то, что заставляет нас искать новые впечатления, исследовать, добиваться целей. Второй – получение удовольствия. Это способность наслаждаться тем, что у нас уже есть.
У большинства современных людей первая система гиперактивна, а вторая подавлена. Мы отлично умеем хотеть, но разучились получать удовольствие от достигнутого. Покупаем новую вещь – радуемся день, потом она становится обыденной. Получаем повышение – неделю ходим довольные, потом привыкаем и хотим следующего.
Это объясняет парадокс современной жизни: имея больше возможностей для счастья, чем любое поколение до нас, мы чувствуем себя опустошёнными. Наша система вознаграждения работает как сломанный компас – всегда указывает в сторону «ещё», но никогда не показывает «достаточно».
– Понимаю, – кивнул Николай Семёнович. – Как с едой – если всё время на сладкое налегать, живот заболит. А если в меру, да после работы – самое то. Получается, вам в вашем времени надо как-то… ограничивать себя?
– Да, но это очень сложно. Представьте: вокруг вас везде бесплатная водка, причём самая вкусная. На каждом углу. И все пьют. И говорят, что это нормально, что так живут современные люди.
– Ух ты… А кто же тогда эту водку разливает? Зачем им это?
Отличный вопрос Николая Семёновича подводит к самому важному: дофаминовая перегрузка – не случайность, а продуманная стратегия. Крупнейшие технологические компании мира нанимают лучших нейропсихологов для создания продуктов, от которых невозможно оторваться.
В Кремниевой долине это называется «захват внимания». Цель проста: чем больше времени пользователь проводит в приложении, тем больше рекламы ему можно показать, тем больше денег заработает компания.
Для этого используются все достижения науки о мозге:
Переменное подкрепление – награды приходят непредсказуемо, как в игровых автоматах. Не знаешь, будет ли интересной следующая публикация в ленте, поэтому продолжаешь скроллить.
Социальное одобрение – лайки, комментарии, репосты активируют центры вознаграждения сильнее, чем некоторые наркотики. Мы биологически запрограммированы искать одобрение группы – это было важно для выживания предков.
Страх упустить что-то важное (FOMO) – постоянное ощущение, что где-то происходит что-то интересное, а вы это пропускаете. Новостные ленты никогда не заканчиваются именно поэтому.
Эффект завершения – сериалы заканчиваются на самом интересном месте, игры не дают закончить уровень с первого раза, уведомления приходят тогда, когда вы заняты другими делами.
Это не теория заговора. Бывшие сотрудники Facebook, Google, Apple публично рассказывают о том, как создавали технологии зависимости. Некоторые из них теперь ограничивают использование гаджетов для собственных детей.
Самое печальное в этой истории – мы всё это знаем. Статьи о влиянии социальных сетей на психику набирают миллионы просмотров. Книги о цифровом детоксе становятся бестселлерами. Документальные фильмы о манипуляциях крупных технологических фирм получают престижные награды.
Но знание не превращается в действие. Мы читаем о вреде бесконечного скроллинга… в процессе бесконечного скроллинга. Смотрим видео о том, как соцсети разрушают концентрацию… на платформах, которые эту концентрацию разрушают.
– Получается, что хорошее превратилось в плохое? – резюмировал Николай Семёнович наш разговор.
– Не в плохое, а неуместное. Как огонь – в печи он греет дом, а если разгорится в неправильном месте, может дом сжечь. Дофамин не плох сам по себе. Плохо то, что его слишком много и его легко получить.
– Значит, проблема не в химии этой, а в том, как вы с ней обращаетесь. Как с любым инструментом – можно гвоздь забить, а можно палец расшибить.
Мудрость простого рабочего оказалась точнее многих научных трактатов. Дофамин – это инструмент. Но инструмент, которым мы разучились правильно пользоваться. Мы знаем, как он работает, но не знаем, как им управлять.
И это только начало проблемы. Потому что дофаминовая перегрузка – лишь симптом более глубокого кризиса. Кризиса культуры, которая превратила удовольствие из награды за усилия в право, которое должно быть доступно немедленно и без ограничений.
В следующей главе мы поговорим о том, как эта культура мгновенного кайфа изменила наше отношение к простым радостям жизни. И почему человек, который никогда не смотрел Netflix, может научить нас о счастье больше, чем все приложения для медитации вместе взятые.
Глава вторая. «Хлеб, пища, кров – тебе этого мало?» – о культуре мгновенного кайфа
– Так ты говоришь, у вас там всякие зрелища в этом… как его… интернете? – Николай Семёнович произнёс последнее слово осторожно, как будто оно могло укусить. – И это всё даром достаётся?
– Даром, – кивнул я. – Любой фильм, любая песня, любая книга. Миллионы часов развлечений за копейки в месяц.
– Господи Боже мой, – он покачал головой. – А что же народ-то делает? Небось совсем от дел отбился?
– Многие именно так и живут. Проводят по восемь часов в день, просматривая видео, читая новости, играя в игры…
– Восемь часов?! – глаза рабочего округлились. – Да это же полная рабочая смена! А дела домашние кто делает? Хозяйство кто ведёт?
Я попытался объяснить, что в современном мире хозяйство ведёт себя само: еда заказывается через приложения, одежда покупается онлайн, даже уборку можно доверить роботу-пылесосу или заказать клининг. Но чем больше я рассказывал, тем сильнее хмурился Николай Семёнович.
– Стало быть, человек в ваше время ничего своими руками не делает? Только глядит в эту штуковину… как ты её назвал… смартфон?
Этот разговор заставил меня задуматься о том, как кардинально изменилась природа человеческих потребностей за последние полтора века. То, что для Николая Семёновича было немыслимой роскошью, для нас стало базовой необходимостью.
В годы, когда жил мой воображаемый собеседник, развлечения были событием. Выездной театр, ярмарка, церковный праздник – вот и все радости простого человека на год. Остальное время заполняли работа, сон и редкие моменты отдыха.
Сегодня развлечения превратились из события в фон. Мы едим под музыку, работаем под сериалы, засыпаем под подкасты. Тишина стала врагом, скука – диагнозом, а постоянная стимуляция – нормой жизни.
Но самое важное изменение произошло не в количестве развлечений, а в их качестве. Современная индустрия развлечений изучила наш мозг лучше, чем мы сами, и создала продукты, которые эксплуатируют наши базовые инстинкты с хирургической точностью.
Возьмём обычный сериал на Netflix. Каждая серия заканчивается клиффхэнгером – моментом наивысшего напряжения, который оставляет зрителя в подвешенном состоянии. Дофамин выделяется, предвкушая разрешение конфликта, но удовлетворения не приходит. Мозг требует продолжения.
Следующая серия начинается автоматически через 10 секунд. Этого времени недостаточно для принятия осознанного решения, но достаточно для того, чтобы дофамин переключился на новое ожидание. И так может продолжаться часами.
Сценаристы изучают нейробиологию зависимости. Они знают, что человеческий мозг не может устоять перед незаконченными историями (эффект Зейгарник), перед социальными конфликтами (мы эволюционно настроены следить за отношениями в группе) и перед загадками (любопытство – один из сильнейших драйверов поведения).
В результате просмотр сериала превращается в марафон. Люди запоем смотрят целые сезоны, забывая о сне, еде и обязанностях. Это называется binge-watching, и Netflix гордится тем, что создал эту культуру.
– Постой-ка, – перебил меня Николай Семёнович. – Ты говоришь, что люди сами себя морят, глядя на картинки? А что, их кто неволит?
– Нет, конечно. Но дело в том, что эти «картинки» созданы специально для того, чтобы от них нельзя было оторваться. Используют знания о том, как работает наш мозг.
– Ну так что ж, разум-то у человека есть или нет? Не нравится – не гляди.
– Вы правы, но представьте: вас всю жизнь кормили простой пищей. А тут принесли блюдо, которое в сто раз слаще и вкуснее всего, что вы пробовали. И сказали: «Ешьте сколько хотите, это бесплатно». Сможете остановиться?
Николай Семёнович задумался, потёр подбородок.
– Понятно. Это как с хмельным. Один глоток – для веселья, а дальше само себя тянет. Значит, ваши развлечения – они как водка какая?
– Именно так.
TikTok: наркотик коротких удовольствийЕсли Netflix – это водка развлечений, то TikTok – чистый героин. Приложение показывает короткие видео, каждое длится от пятнадцати секунд до одной минуты. Этого времени как раз достаточно для выделения дофамина, но недостаточно для насыщения.
Алгоритм TikTok анализирует каждое ваше действие: на каком видео вы задержались на секунду дольше, что досмотрели до конца, на что поставили лайк. Он создаёт точный профиль ваших предпочтений и показывает именно то, что гарантированно удержит внимание.
Результат превосходит все ожидания создателей. Средний пользователь TikTok проводит в приложении 95 минут в день. Подростки – до 8 часов. Это больше, чем время сна у многих взрослых.
Но самое опасное не время, а характер потребления. TikTok тренирует мозг на мгновенное удовлетворение. Скучное видео? Свайп вверх – и новое. Не понравилось? Ещё свайп. Всегда есть что-то более интересное в одном движении пальца.
Это формирует особый тип внимания – гиперактивное и поверхностное. Люди теряют способность сосредотачиваться на чём-то одном дольше нескольких минут. Книги становятся невыносимо нудными. Фильмы – слишком медленными. Даже обычные разговоры кажутся пустой тратой времени.
Реклама, которая знает вас лучше близкихСовременная реклама – это не те наивные призывы «покупайте наше мыло», которые висели на заборах в начале двадцатого века. Сегодня реклама знает о вас всё: что вы покупали, где бывали, с кем общались, что искали в интернете, даже как долго смотрели на определённую картинку.
Эти данные анализируются алгоритмами машинного обучения, которые находят закономерности в поведении миллионов людей. Система знает, что люди вашего типа покупают в 15:30 во вторник, когда им грустно и они получили зарплату три дня назад.
– А что, эти… как их… алгоритмы… они правда знают, что человек купить хочет, раньше, чем он сам узнает? – недоверчиво спросил Николай Семёнович.
– Не только знают, но и влияют на желания. Показывают рекламу именно тогда, когда вы наиболее уязвимы. Устали после работы? Вот реклама еды на дом. Поссорились с партнёром? Вот товары для утешения. Получили премию? Время тратить на роскошь.
– Батюшки… А как же они узнают, что у человека на душе творится?
– По поведению в интернете. Грустные люди медленнее скроллят ленту, дольше смотрят на определённые картинки, чаще ищут утешающий контент. Счастливые – быстрее листают, больше лайкают, активнее общаются. Алгоритмы научились читать эмоции по цифровым следам.
– Страсть какая… Получается, человек у вас как на ладони перед всеми лежит?
– Хуже. Он на ладони у тех, кто хочет ему что-то продать.
Это создаёт порочный круг. Алгоритмы не просто реагируют на наши желания – они их формируют. Показывают товары, которые мы «должны» хотеть, основываясь на поведении похожих на нас людей. В результате наши желания становятся не нашими, а усреднёнными проекциями статистических моделей.
Скука как угроза выживаниюВ мире Николая Семёновича скука была естественной частью жизни. Долгие зимние вечера, воскресные дни, время между работой и сном – всё это заполнялось размышлениями, беседами или просто созерцанием.
Современный человек панически боится скуки. Она воспринимается как сигнал тревоги, требующий немедленного устранения. Средний человек проверяет телефон 96 раз в день – каждые 10 минут в период бодрствования. Мы буквально не можем остаться наедине с собственными мыслями.
Исследования показывают: большинство людей предпочтут получить удар током, чем провести 15 минут в тишине без развлечений. Это не преувеличение – реальный эксперимент психологов из Университета Вирджинии.
Мы разучились скучать. А вместе с этим потеряли способность к глубоким размышлениям, творчеству, самопознанию. Скука – это не пустота, которую нужно заполнить. Это пространство, в котором рождаются идеи, формируются планы, происходит внутренняя работа.
– У нас тоже скучно бывало, – задумчиво сказал Николай Семёнович. – Особенно зимой долгой. Но ведь не помирали же от этого. Думали о чём-то своём, мастерили что, сказки сказывали…
– А что вы чувствовали, когда скучали?
– По-разному. Иной раз тягостно становилось, правда. Но чаще… как бы сказать… покойно было. Мысли свои в порядок приводил, планы на будущее строил. А то и вовсе ни о чём не думал – просто был.