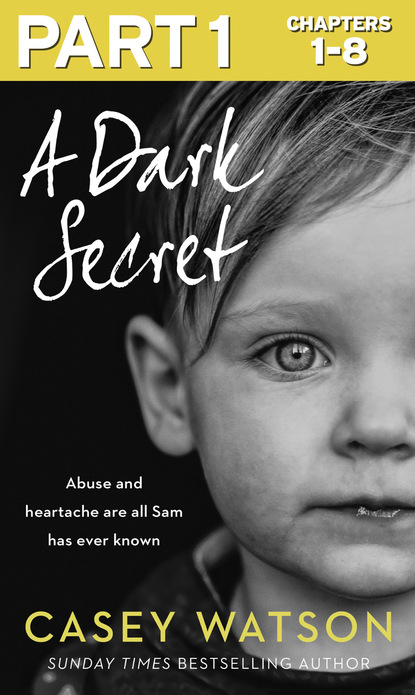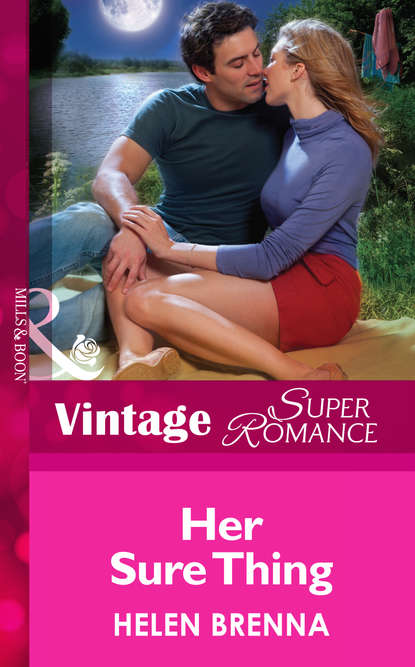Весы и корни

Её воспитали на ядах и послушании. Её душу выткали из тины и страха. Но в сердце, рождённом для убийств, проросло семя сомнения. Чтобы стать хозяйкой своей судьбы, Навье предстоит разорвать корни, связывающие её с ядовитым древом её рода.