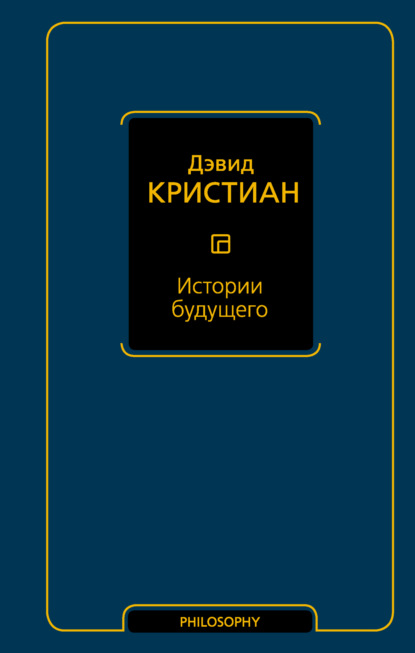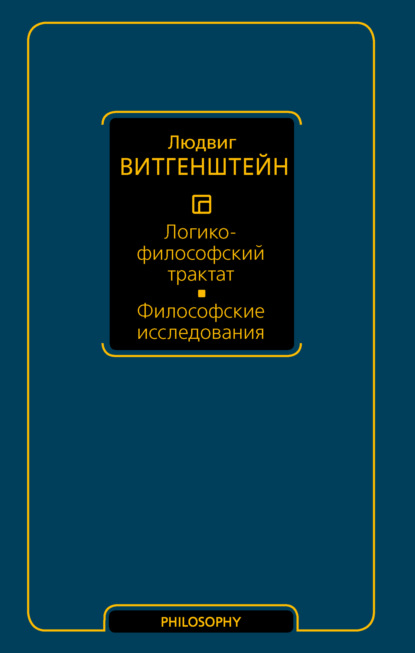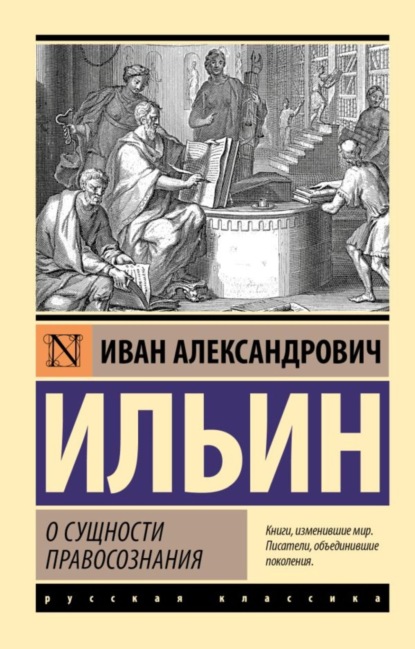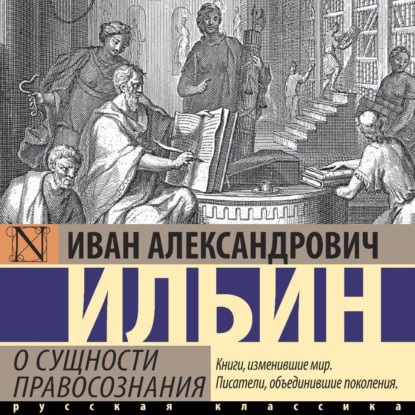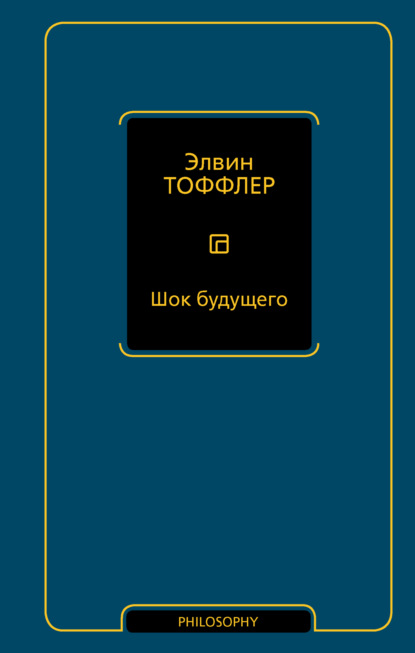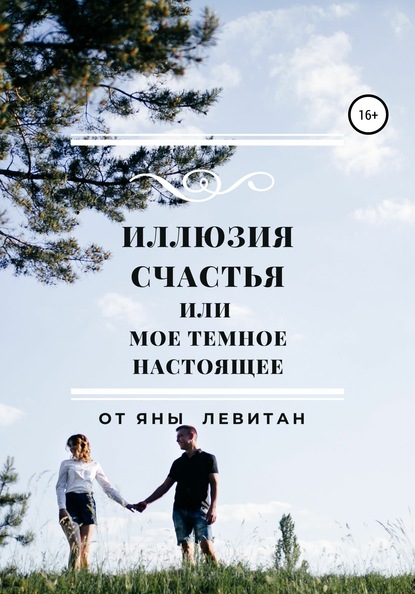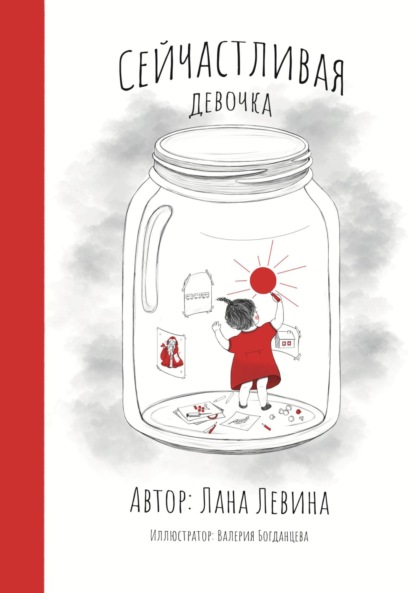Третья волна
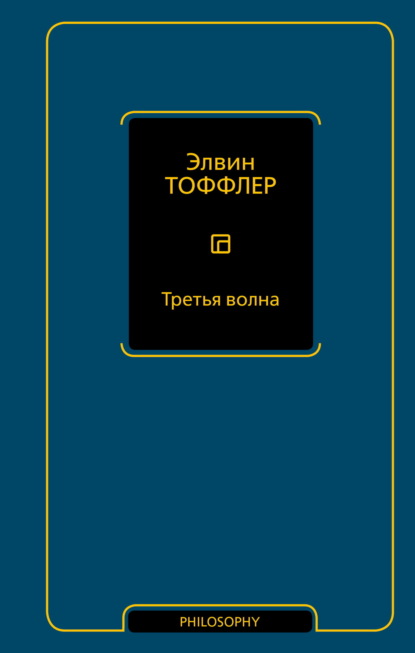
- -
- 100%
- +
Но и этого было мало. Если массовое производство требовало стандартизации машин, продуктов и процессов, то непрерывно растущий рынок требовал соответствующей унификации денежных единиц и даже цен. Раньше деньги эмитировались банками и частными лицами, а также монархами. Частные деньги находились в обращении в некоторых районах США до конца XIX века, а в Канаде – до 1935 года. Однако постепенно промышленно развитые страны подавили все негосударственные валюты и сумели навязать единый денежный стандарт в рамках всей страны.
Кроме того, до начала XIX века покупатели и продавцы в промышленных странах имели освященное вековыми традициями обыкновение торговаться, как на каирском базаре. В 1825 году молодой иммигрант из Северной Ирландии по имени А. Т. Стюарт, открывший в Нью-Йорке мануфактурный магазин, шокировал покупателей, установив фиксированные цены для каждого предмета. Эта политика единой цены или ценовой стандартизации сделала Стюарта королем коммерции своей эпохи и устранила одно из главных препятствий на пути к системе массового распределения.
При всех прочих расхождениях передовые мыслители Второй волны сходились во взглядах на унификацию как эффективную меру. Благодаря неустанному применению принципа унификации на различных уровнях Вторая волна ликвидировала множество различий.
Специализация
Второй великий принцип, пронизавший все страны Третьей волны, – это специализация. Чем больше Вторая волна устраняла разнообразие в сфере языка, образа жизни и досуга, тем больше она нуждалась в разнообразии в сфере труда. Ускоряя разделение труда, Вторая волна, используя методику Тейлора, заменила крестьянина, «мастера на все руки», серьезным специалистом узкого профиля и рабочим, выполняющим одну-единственную операцию.
Уже в 1720 году отчет «Выгоды ост-индской торговли» указывал на то, что специализация способна дать больше с меньшими потерями времени и труда. В 1776 году Адам Смит в своем «Исследовании о природе и причинах богатства народов» сделал громкое заявление: «Величайший прогресс в развитии производительной силы труда… [явился], по-видимому, следствием разделения труда» [6].
В качестве классического примера Смит дает описание производства булавок. Рабочий прежнего типа, писал он, выполняя все необходимые операции самостоятельно, смог бы ежедневно производить не более пригоршни булавок – может быть, штук двадцать, а может быть, ни одной. В противовес Смит приводит описание мануфактуры, которую он посетил, где восемнадцать различных операций для производства каждой булавки выполняли десять рабочих-специалистов, выполнявших только одну-две операции. Сообща они умудрялись производить 48 000 булавок в день – более 4800 штук на каждого рабочего.
К началу XIX века по мере перехода труда с полей на фабрики история с булавками повторялась все чаще и во все больших масштабах. Соответственно возрастали социальные издержки специализации. Критики индустриализма обвиняли рост специализации в том, что однообразный труд лишал рабочего человеческого достоинства.
К тому времени, когда Генри Форд в 1908 году приступил к производству «модели Т», для выпуска готового изделия требовалось уже не 18 операций, а 7882. В автобиографии Форд упоминает, что из 7882 специализированных операций 949 требовали, чтобы их выполняли «сильные, крепкие мужчины в практически идеальной физической форме». 3338 операций могли выполняться мужчинами с «обычными» физическими данными, а остальные – «женщинами или детьми старшего возраста». Он бесстрастно продолжает, что «670 операций могли выполняться безногими, 2637 – одноногими, две – безрукими, 715 – однорукими и 10 – слепыми». Другими словами, для специализированной операции требовался не весь человек, а только конкретная часть его тела. Никто с тех пор не представил более яркого свидетельства жестокости чрезмерной специализации.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
В контексте этой книги я отношу к мировой промышленной системе по состоянию на 1979 год Северную Америку, Скандинавию, Великобританию с Ирландией, Восточную и Западную Европу (за исключением Португалии, Испании, Албании, Греции и Болгарии), СССР, Японию, Тайвань, Гонконг, Сингапур, Австралию и Новую Зеландию. Разумеется, в эту группу можно было бы включить и другие страны, а также индустриальные узлы по большей части неиндустриальных стран – Монтеррей и Мехико-Сити в Мексике, Бомбей в Индии и многие другие.
2
Господствующую форму производственного объединения в промышленных странах Восточной Европы и в Советском Союзе можно безошибочно охарактеризовать как «социалистическую корпорацию». Производственным объединением владеет государство, а не частные инвесторы. Государство осуществляет политическое управление ПО в рамках плановой экономики. Однако, как и в капиталистической системе, главной функцией социалистической корпорации является концентрация капитала и организация массового производства. Более того, как и капиталистическая корпорация, она формирует жизненный путь своих работников, оказывает неформальное, но мощное политическое влияние, создает новые управленческие элиты, полагается на бюрократические административные методы, рационализирует производство. Как и ее западный аналог, она занимает центральное положение в общественном устройстве.
3
Количество почтовых отправлений служит хорошим индикатором уровня индустриализации страны. Для обществ Второй волны средний показатель в 1960 году составлял 141 отправление на душу населения. Для сравнения в обществах Первой волны он едва дотягивал до одной десятой этого числа – 12 % в Малайзии и Гане, 4 % в Колумбии.
4
Рынок, играющий роль АТС, существует независимо от того, основан ли он на деньгах или бартере. Он не зависит от того, извлекается ли из него прибыль, следуют ли цены законам спроса и предложения или устанавливаются государством, существует ли какая-либо система планирования или нет, принадлежат ли средства производства частнику или государству. Рынок будет существовать даже в гипотетическом обществе, в котором работники самоуправляемых промышленных компаний могут сами назначать себе зарплату на уровне, полностью исключающем получение прибыли.
Этот существенный факт настолько часто обходят вниманием, а понятие рынка настолько тесно связывают только с одним его вариантом (моделью, основанной на прибыли и частной собственности, при которой цены отражают спрос и предложение), что в словаре экономической науки просто невозможно найти термин, который отражал бы множество форм рынка.
На этих страницах понятие «рынок» используется во всем его многообразии, а не в привычном выхолощенном виде. Термины, однако, не влияют на главный момент: когда производитель и потребитель отделены друг от друга, для взаимодействия между ними необходим какой-нибудь механизм. Именно этот механизм независимо от его формы я и называю рынком.
5
Не путать с транснациональной ITT (Международной телефонной и телеграфной корпорацией).
6
Смит связывал повышение производительности труда с большей сноровкой работника, которую тот развивал за счет специализации, экономии времени вследствие отсутствия необходимости переключаться на другие задачи, а также усовершенствований инструментов, которые мог придумать рабочий-специалист. Однако Смит хорошо понимает, в чем заключается суть вещей – в рынке. Без рынка, связывающего производителя с потребителем, кому нужно выпускать 48 000 булавок в день? Смит также добавляет, что по мере увеличения рынка можно ожидать дальнейшей специализации. И он оказался прав.