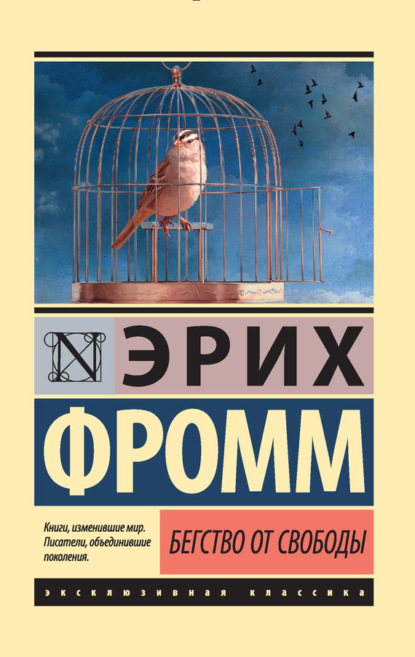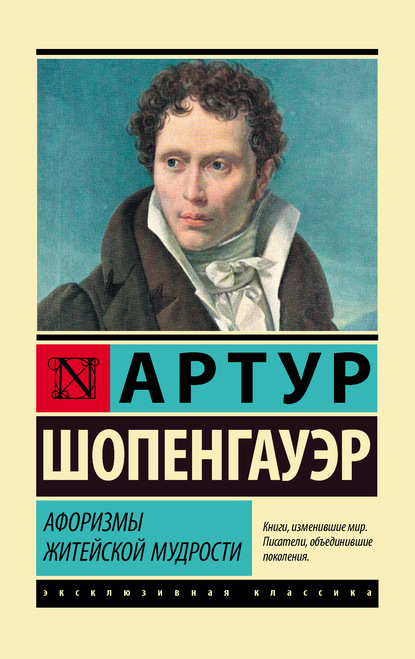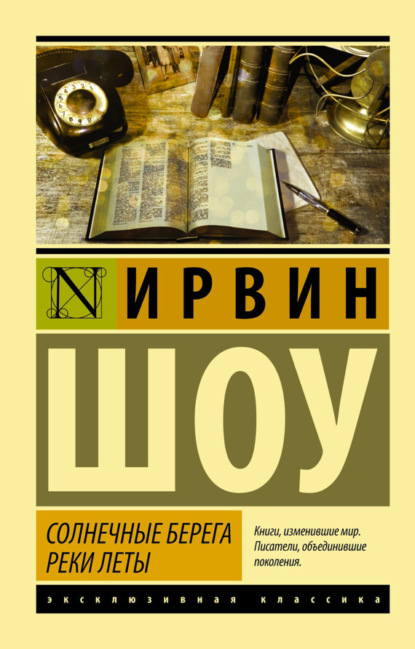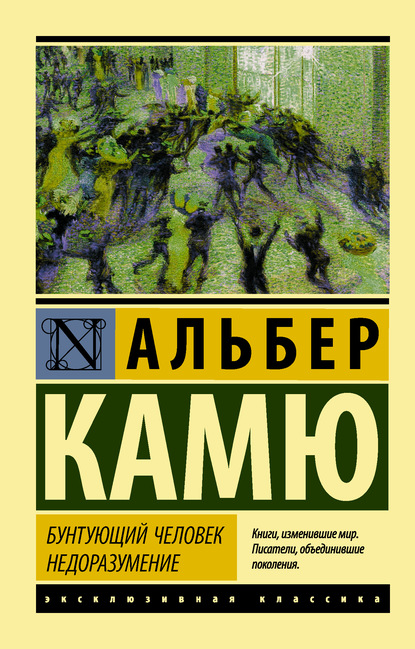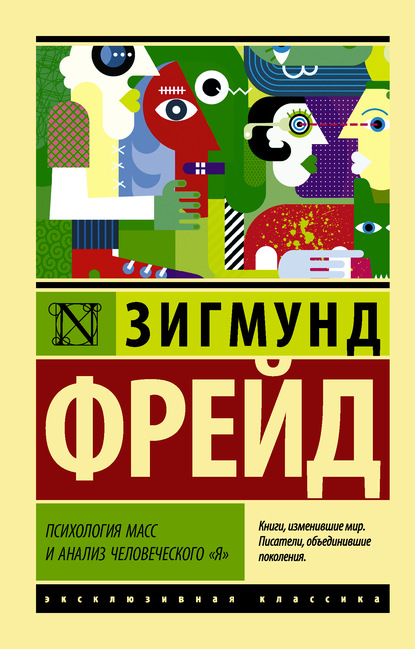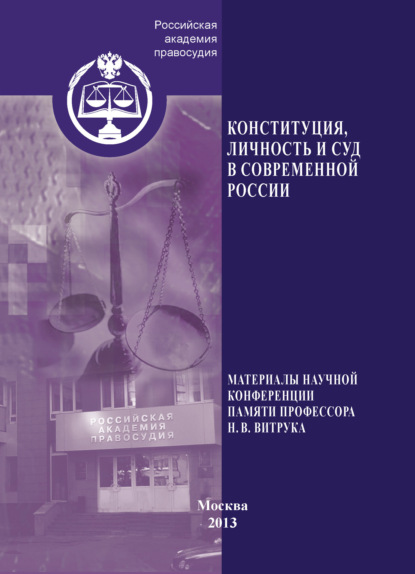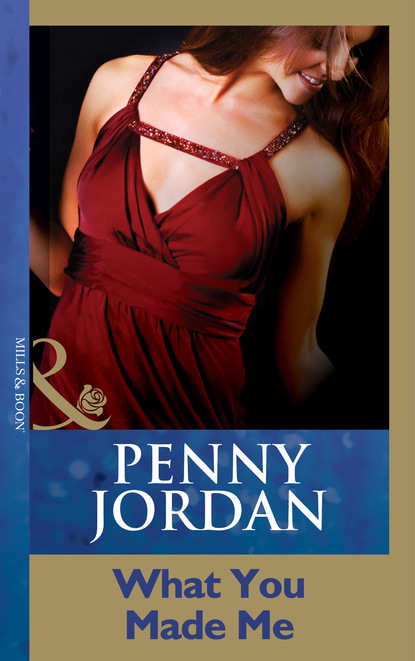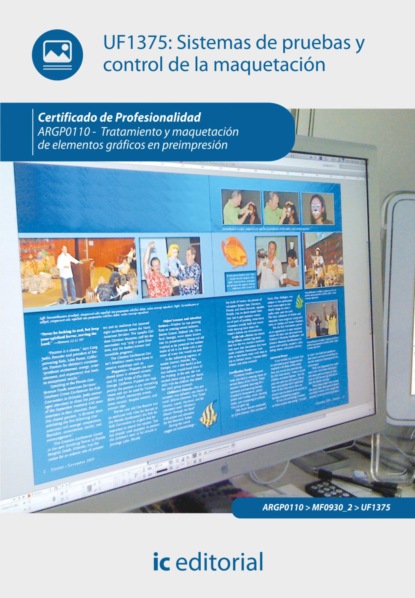Берен и Лутиэн

- -
- 100%
- +

J. R. R Tolkien
BEREN AND LUTHIEN
Перевод с английского С. Лихачевой
J.R.R Tolkien asserts the moral right to be acknowledged as the author of this work.
Alan Lee asserts the right to be acknowledged as the illustrator of this work.
© The Tolkien Estate Limited, 2017
© Alan Lee, 2017
© Перевод. С. Лихачева, 2019
© Издание на русском языке AST Publishers, 2025
* * *Посвящается Бейли[1]
От переводчика: о передаче имен и названий
Предваряя непосредственно текст, скажем несколько слов о переводческой концепции передачи имен и названий. Транслитерация имен собственных, заимствованных из эльфийских языков, последовательно осуществляется в соответствии с правилами чтения, сформулированными Дж. Р.Р. Толкином в Приложении Е к «Властелину Колец» и перенесенными на русскую орфографию. Оговорим лишь несколько наименее самоочевидных и вызывающих наибольшие споры подробностей. Так, в частности:
<Е> обозначает звук, по описанию Толкина примерно соответствующий тому же, что в английском слове were, то есть не имеющий абсолютно точного соответствия в русском языке. Попытки использовать букву “э” всюду, где в оригинале имеется звук [е] после твердого согласного, то есть практически везде, представляются неправомерными. Звук [э] русского языка, притом что он, строго говоря, и не соответствует стопроцентно исходному, будучи передаваем через букву “э”, создает комичный эффект имитации “восточного” акцента. Та же самая цель (отсутствие смягчения предшествующего согласного) легко достигается методами, для русского языка куда более гармоничными: в словах, воспринимающихся как заимствования, согласный естественным образом не смягчается и перед “е” (так, в слове “эссе” предпоследний согласный звук однозначно твердый).
В системе транслитерации, принятой для данного издания, в именах и названиях, заимствованных из эльфийских языков, буква “э” используется:
– на конце имен собственных, заимствованных из эльфийских языков (тем самым позволяя отличить эльфийские имена от древнеанглийских): Финвэ (Finwё) (но Эльфвине (Aelfwine)).
– в начале слова и в дифтонгах (во избежание возникновения звука [j]): Галадриэль (Galadriel), Эгнор (Egnor).
В большинстве же случаев для передачи пресловутого гласного звука используется буква “е”: Берен (Beren), Белерианд (Beleriand).
В языке квенья ui, oi, ai, iu, eu, au – дифтонги (то есть произносятся как один слог). Все прочие пары гласных (напр. ëa, ëo) – двусложные. В языке синдарин дифтонги – ae, ai, ei, oe, ui, au. Тем самым, в таких именах и названиях, как Эсгалдуин, Гаурхот, Таур-на-Фуин, «уи»/«ау» прочитывается как один слог: «уй»/«ав» («Эсгалдуйн», «Гаврхот», «Тавр-на-Фуйн»). Прецедент взят из академических изданий переводов с языков, где присутствуют дифтонги, в которых первый элемент является слоговым, а второй – нет.
Для ряда этнонимов в тексте оригинала используются формы множественного числа, образованные по правилам грамматики соответствующих эльфийских языков (Noldor, Eldar, Noldoli), но не правилам английской грамматики. В силу этой причины те же формы мы используем в русском переводе как несклоняемые существительные (нолдор, эльдар, нолдоли и т. д.).
Согласно правилам постановки ударения в эльфийских именах и названиях, изложенным Дж. Р.Р. Толкином в Приложении Е к «Властелину Колец», ударение в эльфийских языках квенья и синдарин падает на второй от конца слог в двусложных словах (На́рог, Фи́нрод). В словах с бо́льшим количеством слогов ударение падает на второй от конца слог, если этот слог содержит в себе долгий гласный звук, дифтонг или гласный звук, за которым следует два или более согласных (Калаки́рья, Куивиэнен, Финго́лфин). В противном случае ударение падает на предыдущий, третий от конца слог (Ме́лиан, Лутиэн, Феанор). В «Списке имен и названий» в конце книги для удобства читателя в эльфийской ономастике проставлены ударения.
Отдельного уточнения заслуживает название Нарготронд. Согласно вышеизложенному правилу, в данном случае ударение должно падать на второй от конца слог, поскольку он содержит в себе гласный звук, за которым следует два или более согласных (Нарго́тронд). Однако на протяжении всей поэмы сам автор последовательно ставит ударение на первый слог (На́рготронд) – в противном случае нарушалась бы ямбическая метрика стиха:
…Thus Felagund in Nargothrond… (VI.35)…the Gnomes of Nargothrond renowned… (VI.67)…before the gates of Nargothrond… (VI.89)…singing afar in Nargothrond… (VII.510)В переводе мы сохраняем авторскую постановку ударения.
Предисловие
После публикации «Сильмариллиона» в 1977 году я потратил несколько лет на изучение предыстории этого труда и написал книгу, которую назвал «История “Сильмариллиона”». Позже она легла в основу первых томов «Истории Средиземья», – в несколько сокращенном виде.
В 1981 году я наконец написал Рейнеру Анвину, в подробностях рассказав о том, что делал до сих пор и продолжаю делать. На тот момент, как я ему сообщил, рукопись насчитывала 1968 страниц, имела шестнадцать с половиной дюймов в ширину, и для публикации совершенно очевидно не годилась. Я сказал ему: «Если и/или когда вы эту книгу увидите, вы сразу поймете, почему я утверждаю, что невозможно и помыслить о том, чтобы ее издать. Текстологический и прочий анализ слишком подробен и досконален; размер ее (который со временем вырастет еще более) непомерен. Я проделал эту работу отчасти для себя самого, чтобы все разложить по полочкам, и еще потому, что мне хотелось знать, как на самом деле весь этот замысел возник и постепенно эволюционировал, начиная с самых ранних вариантов…
Если у таких изысканий и есть будущее, мне бы хотелось по возможности позаботиться о том, чтобы все последующие исследования «литературной истории» Дж. Р.Р.Т. не превратились в чушь только потому, что ход ее развития как таковой будет истолкован неправильно. Хаотичность и неразборчивость многих бумаг (одна и та же страница исчеркана редактурой в несколько слоев, ключевые подсказки содержатся на обрывках и клочках, разбросанных по всему архиву, на оборотной стороне тех или иных работ записаны уже другие тексты, рукописи разрознены и в беспорядке, местами почти или вовсе нечитаемы) просто не поддаются описанию…
Теоретически я мог бы подготовить не одну книгу на основе “Истории”: есть множество возможных вариантов, по отдельности и в сочетаниях. Так, например, я мог бы составить сборник о «Берене», включив туда исходное «Утраченное сказание»[2], «Лэ о Лейтиан» и статью об эволюции легенды. Я бы, пожалуй, предпочел (если бы, по счастью, дело и впрямь дошло до такого издания) скорее рассмотреть одну отдельно взятую легенду в развитии, нежели опубликовать все «Утраченные сказания» сразу; но в таком случае подробное изложение оказалось бы весьма затруднительным – пришлось бы постоянно объяснять, что происходит где-то в других местах, согласно другим неопубликованным сочинениям».
Я писал, что с удовольствием подготовил бы книгу под названием «Берен» в соответствии с предложенным форматом: но «организация материала представляет проблему: нужно, чтобы история была понятна без избыточного вмешательства редактора».
На тот момент я имел в виду именно то, что написал: я не думал, что такая публикация возможна иначе как в виде одной отдельно взятой легенды «в развитии». И теперь, получается, я сделал именно это – даже не вспомнив о том, что говорил в письме к Рейнеру Анвину тридцать пять лет назад: я напрочь о нем позабыл до тех пор, пока оно случайно не подвернулось мне под руку, когда книга уже была почти готова к печати.
Однако есть существенная разница между нею и моим первоначальным замыслом, а именно: совершенно другие условия. С тех пор значительная часть колоссального количества рукописей, относящихся к Первой эпохе, или Древним Дням, увидела свет на страницах подробно откомментированных изданий: главным образом в составе серии «История Средиземья». Книга, посвященная развитию легенды о «Берене», о которой я упомянул Рейнеру Анвину в качестве идеи для возможной публикации, представила бы читателю обширный материал, на тот момент не известный и не доступный. Но в настоящем издании не содержится ни единой страницы неопубликованного оригинала. Тогда зачем такая книга нужна?
Попытаюсь дать ответ (ожидаемо неоднозначный) – один или даже несколько. Во-первых, вышеупомянутые издания имели целью представить тексты как наглядную иллюстрацию довольно эксцентричного метода работы моего отца (что на самом-то деле зачастую бывал обусловлен внешним давлением) и тем самым выявить последовательность стадий в развитии повествования и обосновать мое истолкование текстологических свидетельств.
В то же время Первая эпоха в «Истории Средиземья» в этих книгах воспринималась как история в двояком смысле. Это действительно история – хроника жизней и событий в Средиземье; но это еще и история смены литературных концепций с течением лет; таким образом, повесть о Берене и Лутиэн растянулась на много лет и несколько книг. Более того, поскольку легенда эта тесно переплелась с медленно формирующимся «Сильмариллионом» и в конце концов стала одним из ключевых его эпизодов, развитие ее отражено в последовательности рукописей, в которых речь идет преимущественно об истории Древних Дней в целом.
Вот почему проследить историю Берена и Лутиэн как цельное, связное повествование по «Истории Средиземья» очень непросто.
В часто цитируемом письме от 1951 года отец назвал эту историю «главным из преданий “Сильмариллиона”» и писал о Берене так: «изгой из рода смертных добивается успеха (с помощью Лутиэн, всего лишь слабой девы, пусть даже эльфийки королевского рода) там, где потерпели неудачу все армии и воины: он проникает в твердыню Врага и добывает один из Сильмарилли Железной Короны. Таким образом он завоевывает руку Лутиэн и заключается первый брачный союз смертного и бессмертной.
История как таковая (мне она представляется прекрасной и впечатляющей) является героико-волшебным эпосом, что сам по себе требует лишь очень обобщенного и поверхностного знания предыстории. Но одновременно она – одно из основных звеньев цикла, и, вырванная из контекста, часть значимости утрачивает».
Во-вторых, в данной книге я преследовал двоякую цель. С одной стороны, я попытался обособить историю Берена и Тинувиэли (Лутиэн) так, чтобы представить ее отдельно, насколько это возможно (на мой взгляд) без искажений. С другой стороны, мне хотелось показать, как это основополагающее предание развивалось в течение многих лет. В моем предисловии к первому тому «Книги утраченных сказаний» я писал об изменениях в легендах:
В истории самой истории Средиземья по ходу ее развития редко случалось так, что отдельные элементы отвергались напрямую – чаще имели место постепенные, поэтапные преобразования (например, тот процесс, в результате которого сюжет о Нарготронде соприкоснулся с преданием о Берене и Лутиэн, – в «Утраченных сказаниях» на эту связь даже не намекалось, притом что оба элемента уже существовали). Примерно так же складывается легендариум у разных народов – как творение многих умов и поколений.
Ключевая особенность этой книги заключается в том, что процесс развития легенды о Берене и Лутиэн представлен подлинными текстами моего отца – его же собственными словами. Мой метод таков: я использую отрывки из гораздо более пространных рукописей, в стихах и в прозе, созданных на протяжении многих лет.
Благодаря этому стало возможным представить вниманию читателя целые фрагменты, содержащие детальные описания или исполненные драматического накала, что теряются в конспективном и сжатом пересказе, характерном для значительной части повествования «Сильмариллиона»: обнаруживаются даже элементы сюжета, впоследствии полностью утраченные. Например, допрос Берена, Фелагунда и его спутников, замаскированных орками, Некромантом Ту (первое появление Саурона), или появление зловещего Тевильдо, Князя Котов, который, при всей мимолетности его литературной жизни, несомненно, заслуживает, чтобы его помнили.
И наконец, я процитирую еще одно из моих предисловий – к «Детям Хурина» (2007):
Не приходится отрицать, что очень многим читателям «Властелина Колец» легенды Древних Дней абсолютно неизвестны, разве что понаслышке – как нечто странное и невразумительное по стилю и манере изложения.
Не приходится отрицать также и то, что пресловутые тома «Истории Средиземья» действительно могут показаться устрашающими. Объясняется это тем, что процесс создания отцовского легендариума был по сути своей непрост: основная цель «Истории» состояла в том, чтобы в нем разобраться – и, таким образом, представить предания Древних Дней как творение, (якобы) непрерывно меняющееся.
Полагаю, объясняя, почему тот или иной элемент предания был в итоге отвергнут, отец мог бы сказать: «со временем я понял, что все было не так», или «я осознал, что это имя – неправильное». Изменчивость преувеличивать не стоит: несмотря ни на что, многие основополагающие элементы оставались незыблемыми. Но, подготавливая эту книгу, я, безусловно, надеялся, что смогу показать, как создание древнего легендариума Средиземья, изменяющегося и разрастающегося за многие годы, отражало стремление автора представить миф наиболее желанным ему образом.
В своем письме к Рейнеру Анвину от 1981 года я отмечал, что, в случае, если я ограничусь одной отдельно взятой легендой из числа всех тех, что вошли в книгу «Утраченных сказаний», «подробное изложение оказалось бы весьма затруднительным – пришлось бы постоянно объяснять, что происходит где-то в других местах, согласно другим неопубликованным сочинениям». В отношении «Берена и Лутиэн» мои предположения оправдались. Необходимо было найти какое-то решение, ведь Берен и Лутиэн, вместе со своими друзьями и врагами, жили, любили и умерли не на пустой сцене, в одиночестве и без какого-либо прошлого. Потому я прибег к тому же методу, что и в «Детях Хурина». В предисловии к той книге я писал:
Таким образом, из собственных слов моего отца бесспорно явствует: если бы ему только удалось закончить и привести к финалу повествование в желаемом ему объеме, он воспринимал бы три «Великих Предания» Древних Дней (о Берене и Лутиэн, о детях Хурина и о падении Гондолина) как произведения вполне самодостаточные и не требующие знакомства с обширным корпусом легенд, известным как «Сильмариллион». С другой стороны <…> сказание о детях Хурина неразрывно связано с историей эльфов и людей в Древние Дни и неизбежно содержит в себе изрядное количество ссылок на события и обстоятельства предания более масштабного.
Потому я привел «сжатое описание Белерианда и населяющих его народов в конце Древних Дней» и включил «список имен и названий, встречающихся в тексте, с краткими пояснениями к каждому». Для данной книги я заимствовал из «Детей Хурина» это сжатое описание, отчасти подсократив его и подправив в соответствии с настоящим изданием; а также и добавил список всех имен и названий, встречающихся в текстах, – в данном случае, сопроводив их пояснительными комментариями самого разного толка. Все эти дополнения не то чтобы важны; они задумывались просто в помощь тем, кто в этом нуждается.
Стоит упомянуть и об еще одной проблеме, которая возникает вследствие слишком частой смены имен. Настоящая книга не ставит целью четко и последовательно отследить преемственность имен и названий в текстах разных периодов. Потому в данном отношении я не соблюдал какого-то определенного правила: в силу тех или иных причин, в одних случаях я проводил различие между ранними и поздними вариантами, в других – нет. Нередко мой отец исправлял какое-то имя в рукописи по прошествии времени, иногда очень долгого, и притом не последовательно: например, заменял Elfin на Elven[3]. В таких случаях я оставлял одну-единственную форму Elven, или Белерианд вместо раннего Броселианд; в других ситуациях я сохранял оба варианта, как, например, Тинвелинт/Тингол, Артанор/Дориат.
Таким образом, эта книга по своему назначению радикально отличается от томов «Истории Средиземья», откуда, в сущности, заимствована. Она со всей определенностью не задумывалась как дополнение к этой серии. Перед нами – попытка вычленить один повествовательный элемент из масштабного, необычайно богатого и сложного труда; но это повествование, история о Берене и Лутиэн, само непрестанно развивалось и обогащалось новыми связями, все глубже врастая в более обширный контекст. Решение о том, что из этого древнего мира «в целом» включать или не включать в книгу, неизбежно оказывается субъективным и неоднозначным: в таком предприятии «единственно правильного способа» нет и быть не может. Однако в целом я делал выбор в пользу понятности и старался не злоупотреблять разъяснениями, опасаясь, что они пойдут вразрез с главной задачей и методологией данной книги.
Подготовленная мною на девяносто третьем году жизни, эта (предположительно) моя последняя книга в долгой серии публикаций трудов моего отца, прежде по большей части неизданных, весьма примечательна по сути своей. Данное предание выбрано in memoriam[4], поскольку корнями своими оно так прочно вросло в жизнь самого автора и поскольку он так много размышлял о союзе Лутиэн, которую называл «величайшей из эльдар», и смертного Берена, об их судьбах и об их посмертии.
С этим преданием я познакомился на заре жизни – в самых ранних моих воспоминаниях сохранилась конкретная его подробность, а не просто общее ощущение от того, что мне рассказывают сказку. Отец поведал мне эту легенду, по крайней мере, частично, вслух, не зачитывая, в начале 1930-х гг.
Та подробность, что до сих пор стоит перед моим мысленным взором, – это вспыхивающие во тьме подземелий Ту волчьи глаза, по мере того, как волки появлялись один за другим.
В письме ко мне о моей матери, написанном в тот же самый год, как она умерла, – и за год до собственной смерти, – отец говорит о своем всепоглощающем чувстве утраты и о своем пожелании написать на могиле под ее именем – «Лутиэн». В этом письме (как и в том, что процитировано на стр. 31 настоящей книги) он возвращается к зарождению предания о Берене и Лутиэн на небольшой лесной полянке, поросшей болиголовами, под Русом, в Йоркшире, где мама танцевала, и добавляет: «Но легенда исказилась, я – оставлен, и мне не дано просить перед неумолимым Мандосом».
Примечание о Древних Днях
Ощущение временно́й бездны, в которую уходит корнями эта история, убедительно передано в достопамятном отрывке из «Властелина Колец». На великом совете в Ривенделле Эльронд рассказывает о Последнем Союзе эльфов и людей и о поражении Саурона в конце Второй эпохи, более трех тысяч лет назад:
Эльронд надолго умолк – и вздохнул.
– Ясно, как наяву, вижу я великолепие их знамен, – промолвил он. – Оно напомнило мне о славе Древних Дней и воинствах Белерианда – столь много великих владык и полководцев собралось там. И однако ж не столь много и не столь блистательных, как в ту пору, когда рухнул Тангородрим и подумалось эльфам, будто злу навеки положен конец – но они заблуждались.
– Ты помнишь? – потрясенно воскликнул Фродо, не замечая, что говорит вслух. – Но мне казалось… – смущенно пробормотал он, едва Эльронд обернулся к нему, – мне казалось, Гиль-галад погиб давным-давно – целую эпоху назад.
– Воистину так, – печально отозвался Эльронд. – Но в памяти моей живы и Древние Дни. Отцом моим был Эарендиль, рожденный в Гондолине до того, как пал город; а матерью – Эльвинг, дочь Диора, сына Лутиэн Дориатской. Перед моими глазами прошли три эпохи на Западе мира, и множество поражений, и множество бесплодных побед[5].
О МорготеМоргот, Черный Враг, как со временем его стали называть, это изначально – как сообщает он захваченному в плен Хурину, – «Мелькор, первый и могущественнейший среди Валар; тот, кто был до сотворения мира»[6]. Теперь же, навеки воплощенный и принявший обличье гигантское и величественное, пусть и ужасное, он, король северо-западных областей Средиземья, физически пребывает в своей огромной твердыне Ангбанд, Железные Преисподни: над вершинами Тангородрима, гор, воздвигнутых им над Ангбандом, курится черный смрад, что пятнает северное небо и виден издалека. В «Анналах Белерианда» сказано, что «врата Моргота находились всего лишь в ста пятидесяти лигах от Менегротского моста; далеко, и все же слишком близко»[7]. Здесь имеется в виду мост, подводящий к чертогам эльфийского короля Тингола; чертоги эти звались Менегрот, Тысяча Пещер.
Но, как существу воплощенному, Морготу был ведом страх. Мой отец писал о нем так: «…В то время, как росла его злоба, – росла и воплощалась в лживых наветах и злобных тварях, таяла, перетекая в них же, и его сила – таяла и рассеивалась; и все неразрывней становилась его связь с землей; и не желал он более покидать свои темные крепости»[8]. Так, когда Финголфин, Верховный король эльфов-нолдор, один поскакал к Ангбанду и вызвал Моргота на поединок, он воскликнул у врат: «Выходи, о ты, малодушный король, сразись собственной рукою! Житель подземелий, повелитель рабов, лжец, затаившийся в своем логове, враг Богов и эльфов, выходи же! Ибо хочу я взглянуть тебе в лицо, трус!»[9] И тогда (как рассказывают) «Моргот вышел. Ибо не мог он отвергнуть вызов перед лицом своих полководцев»[10]. Сражался он могучим молотом Гронд, и при каждом его ударе в земле оставалась громадная яма, и поверг Моргот Финголфина наземь; но, умирая, Финголфин пригвоздил гигантскую ступню Моргота к земле, «и хлынула черная кровь, и затопила выбоины, пробитые Грондом. С тех пор Моргот хромал»[11]. Также, когда Берен и Лутиэн, в обличье волка и летучей мыши, пробрались в глубинный чертог Ангбанда, где Моргот восседал на троне, Лутиэн навела на него чары: и «пал Моргот – так рушится смятый лавиной холм; с грохотом низвергся он со своего трона и распростерся, недвижим, на полу подземного ада»[12].
О БелериандеДревобрад, шагая через лес Фангорн и неся на согнутых руках-ветках Мерри и Пиппина, пел хоббитам о древних лесах обширной страны Белерианд, – лесах, уничтоженных в ходе сокрушительной Великой Битвы в конце Древних Дней. Великое море нахлынуло и затопило все земли к западу от Синих гор, именуемых Эред Луин и Эред Линдон; так что карта, прилагаемая к «Сильмариллиону», заканчивается этой горной цепью на востоке, в то время как карта, прилагаемая к «Властелину Колец», этим же горным массивом ограничена на западе. Прибрежные земли к западу от Синих гор – это все, что в Третью эпоху осталось от области, называемой Оссирианд, Земля Семи Рек: там и бродил некогда Древобрад:
Летом скитался я в вязовых рощах Оссирианда.А! Свет и музыка лета в Семиречье Оссира!И думалось мне: здесь – всего лучше.Через перевалы Синих гор в Белерианд пришли люди; в тех горах находились гномьи города Ногрод и Белегост; именно в Оссирианде поселились Берен и Лутиэн, после того, как Мандос дозволил им вернуться в Средиземье (стр. 254).
Бродил Древобрад также и среди гигантских сосен Дортониона (то есть «Земли Сосен»):
К сосновым нагорьям Дортониона я поднимался зимой.А! Ветер и белизна, и черные ветви зимы на Ород-на-Тоне!Голос мой ввысь летел и пел в поднебесье.Этот край впоследствии стал называться Таур-ну-Фуин, «Лес под покровом Ночи», когда Моргот превратил Дортонион в «средоточие страха и темных чар, морока и отчаяния»[13] (см. стр. 113).
Об эльфахЭльфы появились на земле в далеком краю (Палисор) на берегах озера под названием Куивиэнен, Вода Пробуждения; Валар же призвали эльфов уйти оттуда, покинуть Средиземье, пересечь Великое море и явиться во владения Богов, «в Благословенное Королевство» Аман на западе мира. Вала Оромэ, Охотник, повел в великий поход через все Средиземье тех, кто внял призыву; их называют эльдар, это – эльфы Великого Странствия, Высокие эльфы – в отличие от тех, кто отказался внять призыву и предпочел жить в Средиземье и связать с ним свою судьбу.