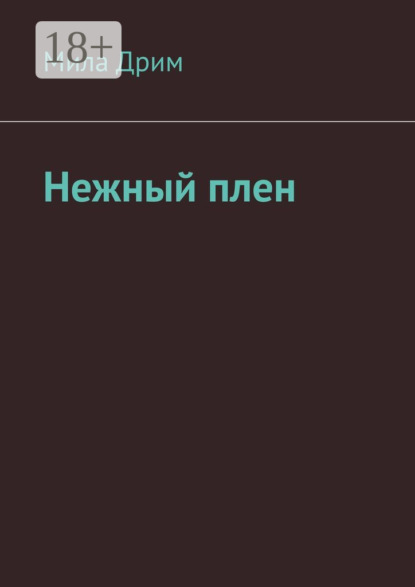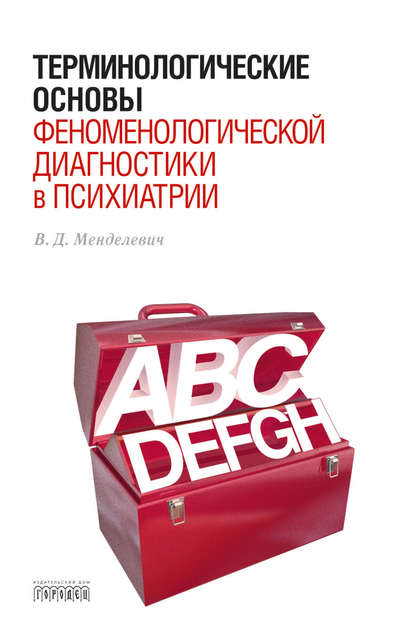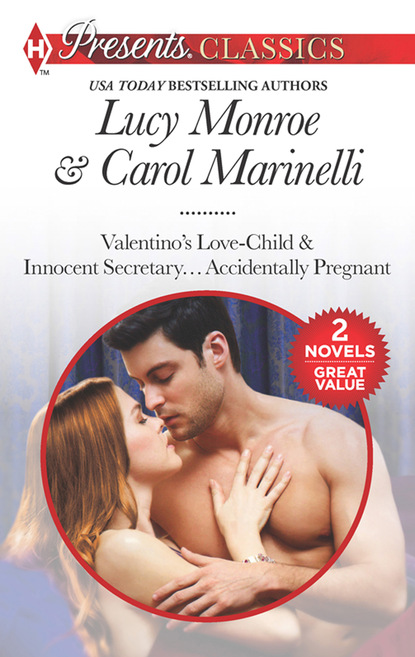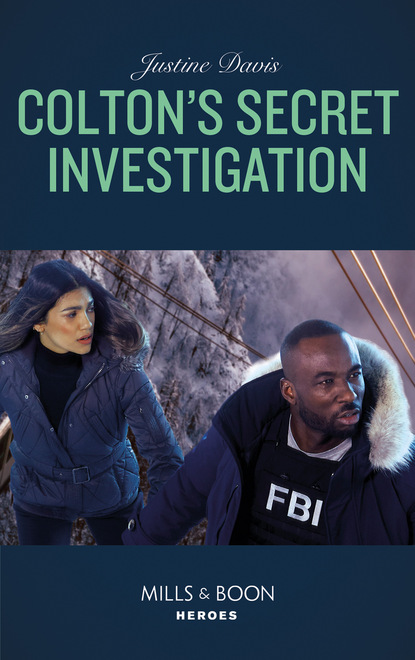Европа после Второй Мировой. 1945-2005 гг. Полная история
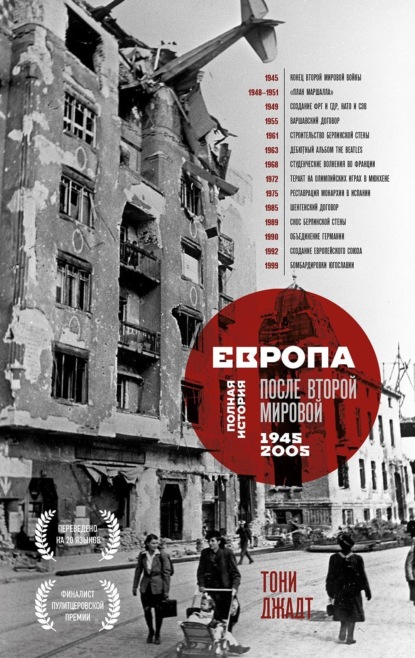
- -
- 100%
- +
В советской оккупационной зоне к нацистскому наследию относились несколько иначе. Хотя в Нюрнбергском процессе принимали участие советские судьи и адвокаты, основной упор в денацификации на Востоке делался на коллективное наказание нацистов и искоренение нацизма из всех сфер жизни. Местное коммунистическое руководство не питало иллюзий по поводу случившегося. Как выразился Вальтер Ульбрихт, будущий лидер Германской Демократической Республики, в речи перед представителями Коммунистической партии Германии в Берлине всего через шесть недель после поражения его страны: «Трагедия немецкого народа состоит в том, что он повиновался группе преступников… Немецкий рабочий класс и производительные части населения потерпели крах перед судом истории».
Это было больше, чем Аденауэр или большинство западногерманских политиков были готовы признать, по крайней мере, публично. Но Ульбрихт, как и советские власти, перед которыми он отчитывался, больше интересовались установлением коммунистической власти в Германии и ликвидацией капитализма, чем возмездием за нацистские преступления. Хотя денацификация в советской зоне действительно в некоторых случаях пошла дальше, чем на Западе, она основывалась на двух искажениях самого понятия нацизма: ■■■■ ■■ ■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■, ■■■■■■ – ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■[89].
Марксизм и советская официальная доктрина сходились в том, что нацизм – это просто фашизм, и этот фашизм, в свою очередь, – продукт капиталистического эгоизма в момент кризиса. Поэтому советские власти мало внимания уделяли отчетливо расистской стороне нацизма и его геноцидальным результатам и вместо этого сосредоточились на арестах и экспроприации бизнесменов, запятнанных чиновников, учителей и других ответственных за продвижение интересов социального класса, предположительно стоявшего за Гитлером. Таким образом, советский демонтаж наследия нацизма в Германии принципиально не отличался от социальных преобразований, которые Сталин проводил в других частях Центральной и Восточной Европы.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■[90]. Коммунисты в оккупированной Германии не могли похвастаться влиятельностью – и их прибытие с Красной армией вряд ли вызвало симпатию у избирателей. Их единственная политическая перспектива, помимо грубой силы и мошенничества на выборах, заключалась в расчетливом обращении к личным интересам. На востоке и юге коммунисты поощряли изгнание этнических немцев и предлагали себя в качестве гаранта и защитника для новых польских/словацких/сербских владельцев оставленных немцами ферм, предприятий и квартир. Это было совершенно невозможно в самой Германии. В Австрии местная коммунистическая партия совершила ошибку на выборах, состоявшихся в конце 1945 года, отвергнув поддержку мелких нацистов и бывших членов партии, а ведь они могли решить исход голосования. Тем самым перспектива развития коммунизма в послевоенной Австрии угасла. Урок не прошел даром для Берлина. Коммунистическая партия Германии (КПГ) решила предложить свои услуги и защиту миллионам бывших нацистов.
Два фактора – доктрина и расчет – не обязательно противоречили друг другу. Ульбрихт и его коллеги определенно считали, что социально-экономические преобразования способны изгнать нацизм из Германии: они не особенно интересовались личной ответственностью или моральным перевоспитанием. Но они также понимали, что нацизм был не просто фокусом для невинного немецкого пролетариата. Немецкий рабочий класс, как и немецкая буржуазия, не справился со своими обязанностями. Но именно по этой причине он с большей, а не с меньшей вероятностью приспособился бы к коммунистическим целям при правильном сочетании кнута и пряника. И в любом случае власти в Восточной Германии, как и на Западе, не имели выбора – с кем еще им управлять страной, кроме бывших нацистов?
Таким образом, с одной стороны, советские оккупационные силы уволили с работы огромное количество бывших нацистов – 520 000 человек к апрелю 1948 года – и назначили «антифашистов» на административные посты в своей зоне оккупации. ■ ■■■■■■ ■■■■■■■, ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■, ■■■ ■■■■■ ■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■. ■■■■■■■■■■■■■, ■■■ ■■■ ■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■. ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■, ■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■. ■■■ ■■■■■ ■■■■■■, ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■, ■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■.
■ ■■■■■ ■■■■■■, ■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■ ■■, ■■■■■■■ ■■■ ■■■■■ ■■■■■■: ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, ■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■, ■ ■■■■ ■■ ■■■■■ ■■■■■ ■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■. ■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■. ■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■ ■■ ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■ ■ ■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■, ■■■■■■■■■, ■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■ ■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ – ■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■, ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■. ■■ ■■■ ■■■■■ ■■■■ ■■■■■ ■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■, ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■, ■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■, ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■ ■■■ ■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■.
■ ■■■■■■ ■■■■-■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■, ■■■ ■ ■■■■■ ■■ % ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■ ■■■■■■. ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ (■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■) ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■ ■■■■ ■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■, ■■ ■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■ «■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■» ■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■, ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■, ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■[91].
Легкость, с которой отдельные лица и институты переходили от нацизма или фашизма к коммунизму, не была уникальной для Восточной Германии, за исключением, возможно, масштаба. Сопротивление военного времени в Италии включало в себя немало бывших фашистов различных слоев и рангов, а послевоенная умеренность Итальянской коммунистической партии, вероятно, в какой-то мере объясняется тем, что многие из ее потенциальных сторонников были скомпрометированы фашизмом. В послевоенной Венгрии коммунисты открыто обхаживали бывших членов фашистской Партии скрещенных стрел[92], вплоть до того, что предлагали им помощь в отношении евреев, добивавшихся возврата своего имущества. В военное время в Лондоне словацкие коммунисты Владо Клементис и Эвжен Лёбл преследовались советскими агентами, завербованными из членов довоенной чешской фашистской партии, чьи показания были использованы против них на показательном суде десятилетие спустя[93].
Не только коммунисты закрывали глаза на нацистское или фашистское прошлое людей в обмен на послевоенные политические услуги. В Австрии западные власти часто благоволили бывшим фашистам и позволяли работать в журналистике и других деликатных профессиях. Их антипатия к левым была все более полезна и заслуживала доверия. А связь с корпоративистским, авторитарным режимом довоенной Австрии стерлась нацистским вторжением.
Союзное военное правительство в приграничной зоне северо-востока Италии защищало бывших фашистов и коллаборационистов, когда многих из них разыскивали югославы. Западная разведка повсеместно вербовала опытных и хорошо информированных бывших нацистов – в том числе «лионского мясника», офицера гестапо Клауса Барбье – на будущее: в том числе и для противостояния бывшим нацистам ■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■[94] которых они могли идентифицировать.
В своем первом официальном обращении к парламенту Федеративной Республики Германии 20 сентября 1949 года Конрад Аденауэр сказал о денацификации и нацистском наследии следующее: «Правительство Федеративной Республики, считая, что многие субъективно искупили свою нетяжелую вину, намеревается там, где это кажется приемлемым, оставить прошлое позади». Нет сомнений, что многие немцы искренне поддержали это утверждение. Если денацификация и была прервана, то только потому, что немцы спонтанно «денацифицировали» сами себя 8 мая 1945 года.
И немецкий народ был не одинок. В Италии ежедневная газета новой Христианско-демократической партии обратилась с аналогичным призывом к забвению в день смерти Гитлера: «У нас есть сила забыть! – провозгласила она. – Забыть как можно скорее!»
На Востоке главным козырем коммунистов было обещание начать новую жизнь в странах, где каждому было что забыть: совершенное с ними или то, что сотворили они сами. По всей Европе распространилось твердое намерение отбросить прошлое и начать все заново, следуя рекомендации Исократа афинянам в конце Пелопоннесской войны: «Давайте править совместно, как будто ничего плохого не произошло».
Эта подозрительно короткая память, поиск удобных мифов об антифашизме – немецких антинацистах, французских членах Сопротивления или польских жертвах – были самым важным незримым наследием Второй мировой войны в Европе. Оно поддерживало национальное восстановление, позволяя таким людям, как маршал Тито, Шарль де Голль или Конрад Аденауэр, предложить своим согражданам убедительную и даже благородную версию их собственного прошлого. Даже ГДР заявляла о своем достойном начале: легендарное и отчасти сфабрикованное коммунистическое «восстание» в Бухенвальде в апреле 1945 года[95]. Такие истории позволяли странам вроде Нидерландов, остававшимся пассивным всю войну, забыть о своих компромиссах, а тем, кто был вполне активен, но не на правильной стороне, как, например, Хорватия, спрятать прошлое за переплетениями различных проявлений героизма.
Без такой коллективной амнезии удивительное послевоенное восстановление Европы было бы невозможно. Конечно, многое выброшенное из головы впоследствии вернулось в самой неприятной форме. Но насколько послевоенная Европа опиралась на основополагающие мифы, которые разрушались и менялись с течением лет, стало ясно гораздо позже. В условиях 1945 года на континенте, покрытом обломками, можно было многого достичь, делая вид, что прошлое действительно мертво и похоронено и новая эра вот-вот начнется. Платой за это стало избирательное коллективное забвение, особенно в Германии. Но везде, и особенно в Германии, было много такого, о чем хотелось забыть.
III. Восстановление Европы
«Все мы уже знаем, что после этой войны нет пути назад к обществу невмешательства, что война как таковая творит тихую революцию, подготавливая путь для нового типа плановой системы».
Карл Маннгейм«Похоже, почти всеобщее мнение состоит в том, что капиталистические методы не справятся с задачей реконструкции».
Йозеф Шумпетер
«Многие из нас были разочарованы Британией, в которую вернулись… никто не мог заставить ее за одну ночь превратиться в ту Британию, которую мы хотели».
Миссис Винни Уайтхаус (в книге Пола Эддисона «Война окончена»)«Лекарство заключается в том, чтобы разорвать порочный круг и восстановить уверенность европейцев в экономическом будущем своих стран и Европы в целом».
Джордж К. МаршаллОгромный масштаб европейского бедствия открыл новые возможности. Война изменила все. Почти никто не сомневался: вернуться к довоенному образу жизни невозможно. Так, естественно, считала радикальная молодежь, но и для проницательных наблюдателей старшего поколения это было столь же очевидно. Шарль де Голль родился в среде консервативной католической буржуазии Северной Франции, ему было 54 года, когда освободили Францию. Он выразился о происходящем с характерной точностью: «Во время катастрофы, под бременем поражения, великая перемена произошла в сознании людей. Многим катастрофа 1940 года казалась провалом правящего класса и системы во всех сферах».
Но во Франции или где-либо еще проблемы начались не в 1940 году. Участники антифашистского сопротивления повсюду видели себя борцами не только против оккупантов и их местных ставленников, но и против всей политической и социальной системы. Они считали, что именно последняя напрямую несет ответственность за все бедствия, что претерпели их страны. Политики, банкиры, бизнесмены и солдаты межвоенного периода довели все до катастрофы, предали жертв Первой мировой войны и подготовили почву для Второй. В одной британской брошюре осуждались консервативные сторонники политики умиротворения до 1940 года. По ее словам, они были «виновными». Во время войны именно они и их система виделись мишенями послевоенного переустройства.
Поэтому Сопротивление везде было революционным по своей природе. Такова была его логика. Отказ от общества, породившего фашизм, естественно приводил «к мечте о революции, которая возникла бы с tabula rasa[96]» (Итало Кальвино). В большей части Восточной Европы поле действительно было полностью расчищено, как мы уже видели. Но даже в Западной Европе повсюду ожидали значимых и быстрых социальных преобразований: кто, в конце концов, встал бы у них на пути?
С точки зрения участников Сопротивления военного времени, послевоенная политика была продолжением их борьбы, естественной проекцией и развитием их тайного существования. Многие юноши и девушки, вышедшие на передовые позиции в военном подполье, не знали другой формы общественной жизни: в Италии с 1924 года, в Германии, Австрии и большей части Восточной Европы с начала 1930-х годов, а во всей оккупированной континентальной Европе с 1940 года никто не представлял, что такое «нормальная» политика. Политические партии были запрещены, выборы фальсифицировались или отменялись. Противостоять властям, выступать за социальные перемены или даже политические реформы – значило ставить себя вне закона.
Так, для нового поколения политика заключалась в сопротивлении – сопротивлении власти, сопротивлении традиционным социальному или экономическому устройству, сопротивлении прошлому. Клод Бурде, активист французского Сопротивления, видный редактор левого журнала и писатель послевоенных лет, уловил это настроение в своих мемуарах L’aventure incertaine («Неопределенное приключение»). «Сопротивление, – писал он, – превратило нас всех в противников во всех смыслах этого слова как по отношению к людям, так и по отношению к обществу». Переход от Сопротивления фашизму к сопротивлению послевоенному возвращению к ошибкам 1930-х годов казался естественным шагом. Отсюда возникло странное оптимистичное настроение, которое отмечали многие наблюдатели сразу после освобождения. Несмотря на царившую вокруг нищету – более того, именно из-за нее, – неизбежно должно было проявиться что-то новое и лучшее. «Никто из нас, – писали редакторы итальянского журнала Società в ноябре 1945 года, – не признает собственное прошлое. Нам оно кажется непонятным… В нашей сегодняшней жизни господствуют чувство оцепенения и инстинктивный поиск направления. Мы просто обезоружены фактами».
Главным препятствием для радикальных перемен после поражения Гитлера были не реакционеры или фашисты, связавшие свою судьбу с диктаторами и смещенные вместе с ними, а законные правительства в изгнании, большинство из которых пересидели войну в Лондоне, планируя возвращение. Они считали местное Сопротивление проблемой, а не союзниками: нерадивые юнцы, которых необходимо разоружить и вернуть к гражданской жизни, передав общественные дела в руки политического класса, должным образом очищенного от коллаборационистов и предателей. Более мягкий подход означал бы анархию или бессрочную оккупацию армиями союзников.
Группы Сопротивления военного времени, ставшие в 1944–1945 годы различными политическими движениями, отвечали такой же подозрительностью. Для них политики, чиновники, придворные, избежавшие оккупации, были дискредитированы вдвойне: довоенными ошибками и последующим бегством. Во Франции и Норвегии законодатели, избранные в 1936 году, были скомпрометированы своими действиями в 1940 году. Когда после пяти лет отсутствия правительства Бельгии и Нидерландов вернулись на родину, они не понимали страданий местного населения и изменений в общественном настроении, вызванных нацистской оккупацией. В Центральной и Восточной Европе, за важным исключением Чехословакии, прежние власти потеряли значимость с приходом Красной армии (хотя осознали это не сразу).
Вернувшаяся администрация вполне охотно шла на компромисс в вопросах политики – в частности, касательно социальных и экономических реформ, как мы еще увидим. При этом они настаивали на том, что де Голль и другие считали «упорядоченным переходом». Поскольку такого же подхода придерживались и союзные оккупационные администрации как на Западе, так и на Востоке, иллюзии Сопротивления вскоре рассеялись. В Восточной Европе (за исключением Югославии) СССР определил форму послевоенных правительств и действия руководителей. В Западной Европе временные правительства пришли к власти впредь до новых выборов. И в каждом случае они подталкивали и даже принуждали силы Сопротивления сложить оружие и прекратить существование.
При взгляде в прошлое поражает, как мало сопротивления встретило восстановление институционального статус-кво. В Польше и некоторых западных частях Советского Союза вооруженные партизанские отряды просуществовали еще несколько лет, но они носили исключительно национальный характер и боролись с коммунизмом. В Норвегии, Бельгии, Франции и Италии организованное Сопротивление мирно, лишь с тихим протестом, влилось в послевоенные политические партии и союзы. В Бельгии в ноябре 1944 года вооруженным участникам подполья военного времени дали две недели на то, чтобы сдать оружие. Это вызвало большую акцию протеста в Брюсселе 25 ноября. Полиция открыла огонь по демонстрантам, ранив 45 человек. Но такие инциденты случались редко[97]. Более типичной была ситуация, когда 200 000 французских участников Сопротивления успешно интегрировались в регулярную армию после того, как их организацию «Французские внутренние силы» (Forces Françaises de l’Intérieur) распустили без протеста.
Демобилизации Сопротивления в значительной степени способствовала советская стратегия, которая содействовала восстановлению парламентских режимов в Западной Европе (а номинально и в Восточной). Коммунистические лидеры, такие как Морис Торез во Франции и Пальмиро Тольятти в Италии, сыграли значительную роль в обеспечении мирного сотрудничества своих (иногда ошеломленных) последователей. Но многие были готовы поверить, что энергия и амбиции Сопротивления теперь будут направлены на политические проекты национального возрождения.
Контакты, установленные в Сопротивлении, иногда сохранялись. Например, послевоенное «соединение» голландского общества, сокращение многовековой конфессиональной пропасти между общинами католиков и протестантов, началось с личных связей, возникших в военное время. Но планы создания послевоенной «Партии Сопротивления» везде провалились. Ближе всего они подошли к осуществлению в Италии, где Ферруччо Парри[98] стал премьер-министром в июне 1945 года и пообещал, что его Партия действия будет следовать духу и целям Сопротивления. Но Парри не был политиком, и когда он пал шесть месяцев спустя, власть окончательно перешла в руки традиционных партий. Де Голль во Франции оказался гораздо лучшим политическим стратегом, но и он покинул пост (через месяц после Парри) и не смог приспособить свои амбиции военного времени к парламентской рутине, тем самым невольно отдавая дань собственному успеху в восстановлении преемственности Республики.
Вместо того чтобы последовать за новым братским сообществом представителей Сопротивления, большинство европейцев в первые послевоенные годы оказались под властью коалиций левых и левоцентристских политиков, довольно похожих на Народные фронты 1930-х годов. Это имело смысл. Единственными довоенными политическими партиями, способными нормально работать в эти годы, были те, которые имели антифашистскую репутацию. А в контролируемой Советским Союзом Восточной Европе – те, за кем новые власти считали выгодным таковыми считать, по крайней мере на данный момент. На практике в этой роли выступали коммунисты, социалисты и горстка либеральных или радикальных групп. Они вместе с недавно появившимися христианско-демократическими партиями составляли правительство в первые послевоенные годы и вывели на первый план многих политиков и деятелей эпохи Народного фронта.
Существующие левые партии очень выиграли от участия в Сопротивлении военного времени: особенно во Франции, где коммунистам удалось превратить свои (иногда преувеличенные) военные подвиги в политический капитал и убедить даже беспристрастных наблюдателей в своем уникальном моральном статусе «великих героев Сопротивления», как описала их Джанет Фланнер в декабре 1944 года. Потому нет ничего необычного в том, что программы реформ послевоенных европейских правительств повторяли и резюмировали незавершенные проекты 1930-х годов.
Опытным партийным политикам удалось так легко вытеснить активистов военного времени после 1945 года потому, что движение Сопротивления и его наследники хоть и разделяли антифашистские взгляды и широко распространенное стремление к переменам, конкретики в своих программах не имели. Партия действия в Италии стремилась отменить монархию, национализировать крупный капитал и промышленность, реформировать сельское хозяйство. В программе действий французского Национального совета Сопротивления не значилось смещение короля, но в остальном амбиции были столь же расплывчатыми. Подразделения Сопротивления были слишком увлечены борьбой или просто выживанием, чтобы заниматься подробными планами послевоенного законодательства.
Но прежде всего членам Сопротивления мешало отсутствие опыта. Среди подпольных организаций только коммунисты имели практические познания в политике, да и то, за исключением французов, не столь глубокие. Но важно, что коммунисты не хотели связывать себе руки подробными программными заявлениями, которые могли бы оттолкнуть будущих тактических союзников. Поэтому Сопротивление мало что оставило в наследство послевоенным проектам, кроме возвышенных заявлений о намерениях и широких обобщений – и даже они, как заметил сочувствующий им Франсуа Мориак в августе 1944 года, были «наспех напечатанными фантастическими программами».
В одном, однако, соглашались все: и члены Сопротивления, и политики. Речь о «планировании». Катастрофы межвоенных десятилетий – упущенные возможности после 1918 года, «великая депрессия», последовавшая за крахом фондового рынка в 1929 году, массовая безработица, неравенство, несправедливость и неэффективность свободного капитализма, которые привели столь многих к искушению авторитаризма, наглое безразличие и высокомерие правящей элиты и некомпетентность политического класса – все казалось связанным с полной неспособностью лучше организовать общество. Если демократия должна была работать, если она должна была восстановить свою привлекательность, ее нужно было планировать.
Можно встретить предположение, что эта вера в планирование – политическая религия послевоенной Европы, перенятая из опыта Советского Союза: советская плановая экономика, якобы избежавшая травм капиталистической Европы, выдержала нацистское нападение и выиграла Вторую мировую войну благодаря серии тщательно спланированных пятилеток. Это предположение совершенно ошибочно. В послевоенной Западной и Центральной Европе только коммунисты верили в планирование советского типа (о котором знали очень мало), но даже они не представляли, как применить его к местным обстоятельствам. Советская одержимость количественными показателями, производственными квотами и централизованным управлением была чужда всем, кроме горстки апологетов планирования на Западе, но даже они использовали совсем другой инструментарий.
Мода на планы и планирование началась задолго до 1945 года. На протяжении межвоенной экономической депрессии от Венгрии до Великобритании раздавались голоса в поддержку плановой экономики того или иного вида. Некоторые высказанные идеи, в частности в Австрии и среди британских фабианцев[99], восходили к более старой социалистической традиции, но многие замыслы брали свое начало в либеральном реформизме до 1914 года. «Государство – ночной сторож» XIX века, внимание которого ограничивалось безопасностью и охраной порядка, устарело. Таков был аргумент. Хотя бы из благоразумных соображений – для предотвращения политического переворота – теперь было необходимо вмешиваться в экономические дела, чтобы отрегулировать дисбаланс, устранить неэффективность и компенсировать неравенство и несправедливость рынка.
До 1914 года основной упор в таких реформистских проектах делался исключительно на призывах к прогрессивному налогообложению, защите труда и иногда национализации ограниченного числа естественных монополий. Но с крахом международной экономики и последовавшей за ней войной планирование приобрело большую актуальность и амбициозность. Конкурирующие предложения по национальному плану, согласно которым государство будет активно вмешиваться в экономику, чтобы поддерживать, препятствовать, облегчать и при необходимости направлять ключевые отрасли, широко распространялись среди молодых инженеров, экономистов и государственных служащих во Франции и Германии.