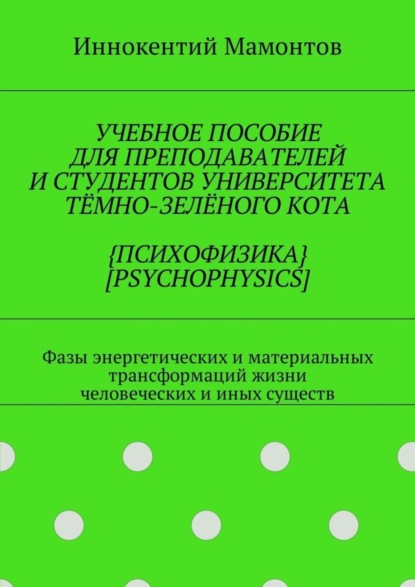Ад за углом
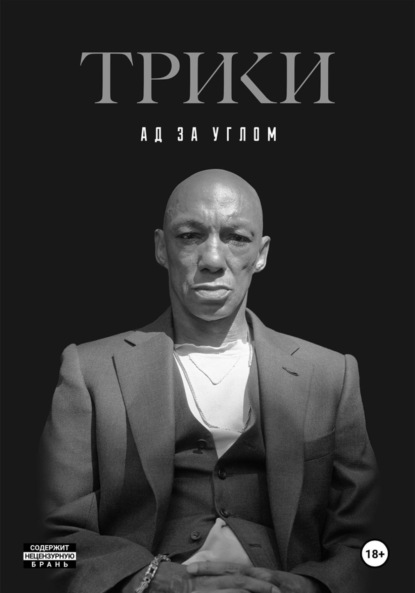
- -
- 100%
- +
Никки положил глаз на одну малышку – роскошную Cortina E красного цвета с деревянной приборной панелью. Он загорелся идеей купить ее. Машина была выставлена на продажу, но у него не хватало денег, так что он подбил нас на очередное ограбление. На кону была тачка и некоторое количество наличных. Мы хорошо заработали и стали гораздо мобильнее.
Никки было еще рано водить, но это его не останавливало. Думаю, из нас троих только я ни разу не сидел за рулем этой машины, но мне казалось, что с ее появлением мы можем поехать куда угодно – в итоге мы отправлялись в Саутмид и катались по окрестностям. В свои четырнадцать ради достижения цели Никки был готов на все. Большинство его сверстников о таких вещах даже не задумывались.
У нас с Эдрианом были и другие общие знакомые, например Дин Рид из школы Никки. Семья Дина сначала жила в Саутмиде, а затем они переехали в Брислингтон. Забавный парень, невысокий, как и Эдриан, у них вся семья такая. А еще у него было дофига братьев, и все драчуны.
Эдриан, скорее всего, будет утверждать, что Дин был первым темнокожим парнем, который пользовался подводкой для глаз. Он делал себе прическу с эффектом мокрых волос, подводил глаза, и в таком виде вместе с Эдрианом они отправлялись в Reeves – клуб в белом районе, где жили представители среднего класса, но их это ничуть не смущало, хотя и приходилось постоянно драться. С одной стороны клуб примыкал к отелю, и как-то раз, когда мы были в холле этого отеля, до Эдриана и Джуниора (брата Дина) докопался таксист. Есть такие ублюдки, которые вечно цепляются к самым мелким. Я был покрупнее, так что ко мне не лезли. У Джуниора в тот момент в руке была сумка, и, когда таксист начал орать, он отбросил ее в сторону, развернулся и врезал ему. Чувак упал на землю, а Джуниор продолжил разговор, словно ничего не произошло.
Еще был Крисси Морган по прозвищу Гриппер. Очередной сорвиголова, тоже смешанного происхождения. Его дед – типичный ямайский старикан, суровый и злющий, как черт, – частенько его поколачивал. У Гриппера было три брата и две сестры, дед держал их всех в ежовых рукавицах. Девчонок из их семьи я предпочитал обходить стороной. Старшую звали Мелита (ее вообще лучше было не трогать), а младшую – Мария. Как-то я подхожу к их дому и вижу, как Мария лупит Гриппера прямо на улице. Они поцапались еще в доме, и словесная перепалка переросла в драку. Когда бедняга не выдержал и решил удрать, Мария догнала его и продолжила избивать уже на улице. Сурово!
Гриппер был, как бы это лучше сказать… обаятельным бандитом. Он был крепким парнем, но при этом еще и дьявольски быстрым. Ему бы стоило стать боксером. Во времена популярности Тайсона один тренер хотел увлечь Гриппера боксом, но тот особо к этому не стремился. Он был обыкновенным жуликом и промышлял угоном велосипедов, мопедов и самокатов – собственно, это все, чем он занимался. Позже Гриппер переключился на квартирные кражи и подсел на крэк, но это случилось уже после того, как наши пути разошлись. Пока мы тусили вместе, он был чист и даже не баловался травкой.
Гриппер был ровесником Никки. В чем-то они были даже похожи, но все равно находились на совершенно разных уровнях – до Никки ему было, как до луны. Никки был недосягаем.
ТРИКИ: Хорфилд – мужская тюрьма категории «B» – расположена на севере Бристоля, на противоположной от Ноул-Уэста стороне города. Казалось, что все в моем окружении давно смирились с тем фактом, что рано или поздно окажутся в ее стенах. Мои дяди, кузены, многие из друзей и даже их дети уже успели побывать в Хорфилде, поэтому я был практически уверен, что когда-нибудь и меня постигнет та же участь.
К тому времени меня уже несколько раз арестовывали и доставляли в полицейский участок Ноул-Уэста. Все начинается с мелких проделок и ночи, проведенной в камере. Но это все детские шалости, к тому же правоохранители не имеют права задерживать молодых ребят надолго. Постепенно к такому образу жизни привыкаешь и где-то в глубине души начинаешь понимать, чем все это закончится. Тюрьма – это всего лишь следующий логичный этап.
Так что я ничуть не удивился, когда в семнадцать лет меня отправили в хорфилдский блок для несовершеннолетних правонарушителей. Все произошло следующим образом: мы с приятелем приобретали фальшивые банкноты номиналом в пятьдесят фунтов. Если мне не изменяет память, по пять фунтов за купюру. Мы закупали их целыми пачками, после чего отправляли кого-нибудь в магазин или ходили туда сами: оплачивали товар и забирали сдачу. Это можно назвать отмыванием денег, только в очень небольших масштабах. Но с юридической точки зрения это квалифицировалось как фальшивомонетничество, преступление против самой королевы. Серьезное дело. За это меня и закрыли. Скорее всего, меня заложил мой подельник, а иначе откуда полиции стало известно о нашем небольшом предприятии?
Он не давал показания против меня в суде или что-то в этом роде. Я просто был молодым парнем из Ноул-Уэста, который не мог позволить себе приличного адвоката. Все было ясно заранее – меня точно посадят. Им даже не нужен был свидетель, чтобы упечь меня за решетку. Деньги могли бы изменить ход дела. Если бы я только мог тогда нанять толкового адвоката. Шанс избежать наказания был, ведь меня не поймали с поличным, все основывалось на слухах и домыслах.
Я не был удивлен обвинительному приговору, потому что видел, как до меня в том же зале проходило заседание по делу женщины, матери двоих детей, – та всего лишь вовремя не оплатила штраф. Судья отправил ее за решетку и глазом не моргнув. Я быстро догадался, что стану его следующей «жертвой». Он был высокомерным, состоятельным чуваком. Такие должности обычно занимают люди из обеспеченных семей, а никак не простые смертные из Ноул-Уэста. Этот богатей не имел абсолютно никакого представления о настоящей жизни за пределами здания суда. Что ты за человек, если из-за неоплаченного штрафа можешь отправить в тюрьму мать двоих детей? Так что у меня не было никаких сомнений относительно того, как разрешится вся эта история – то, что из здания суда я отправлюсь прямиком в камеру, было ясно как божий день.
На суде присутствовала моя бабушка и даже произнесла небольшую речь. Бабуля была хорошей актрисой, она плакала и причитала: «Ох, Ваша честь, мой внук потерял свою маму, когда ему было всего четыре года!» Возможно, бабушке удалось бы вытащить меня из этой передряги: судья постепенно начинал прислушиваться к ее речам. Я видел, как ему нравилось, что его умоляют. Этот тип чувствовал свое превосходство над другими, его в буквальном смысле раздувало от самодовольства. По сравнению с ней он был ничем, пустым местом. Бабушка была настоящим бойцом. Я не мог допустить, чтобы этот трус (а кто он еще?) упивался своей властью. Бабуля была намного сильнее – этому мерзавцу никогда таким не стать.
Я велел ей сесть и прекратить этот спектакль. Бабушка опустилась на скамью, и выражение ее лица тотчас переменилось: грусть пропала, и она вновь стала самой собой. Судья посмотрел на нее и незамедлительно вынес приговор – лишение свободы сроком на два месяца. А я подумал: «Лучше отсижу, чем буду смотреть, как моя бабушка унижается перед этим ублюдком». В каком-то смысле я оказался за решеткой по собственной воле. Это был мой выбор. Да и наплевать.
Я не шучу, когда говорю, что бабушка и ее актерские способности могли изменить ход дела – от меня требовалось лишь держать язык за зубами. После оглашения приговора бабушка подошла ко мне, легонько похлопала ладонью по щеке и произнесла: «Береги себя». Затем сразу же покинула зал суда. Удивительное перевоплощение: от «Ваша честь, мой внук потерял свою маму, когда ему было всего четыре!» к совершенно обыденному, повседневному прощанию! Бабушка не навещала меня в тюрьме, ведь она уже столько раз проходила через все это.
Я совсем не чувствовал страха, когда меня вывели из зала суда и отвели вниз, в камеру предварительного заключения. Происходящее не было для меня потрясением – я воспринимал это как часть жизненного пути. Для парня моего возраста это было чем-то вроде очередного приключения. Я не думал о том месте, куда направлялся, как о тюрьме – я знал, что рано или поздно там окажусь. И вот этот момент настал.
Из камеры предварительного заключения нас повели в автофургон. Его салон был разделен на крошечные узкие клетки, в которых с большим трудом помещался обычный человек. Я сел, протянул руки в небольшие отверстия в решетке, и меня приковали к другому заключенному, а его – к следующему. В общем, обстановка там совершенно точно не для тех, кто страдает клаустрофобией. Думаю, нам всем была бы крышка, попади наша машина в аварию.
Когда мы наконец добрались до места, нас поместили в камеру для новоприбывших. Там я обратил внимание на одного чувака, которого мне стало искренне жаль. Он был гораздо старше меня, на вид ему было лет сорок. Мужик подбирал с пола окурки, вытряхивал из них остатки табака и делал самокрутку. В тюрьме он оказался из-за того, что расправился с любовником своей жены. Было видно, что ему здесь не место – он не был похож на матерого преступника с множеством ходок за плечами. Увы, из-за амурных дел людям часто сносит крышу. Не знаю, на какой срок он загремел в Хорфилд, но за убийство, как правило, давали лет пятнадцать.
Спустя какое-то время во мне проснулись базовые инстинкты. Один из заключенных подошел ко мне со словами: «Эй, закурить не хочешь?» Я отказался, потому что, взяв одну сигарету, ты будешь должен две. В тюрьме нужно действовать на уровне рефлексов. К тому же я не раз убеждался, что даже такая мелочь, вроде той, каким по счету ты стоишь в очереди, может иметь значение. Парень, оказавшийся на два человека впереди меня, сказал тюремщику что-то не то и тут же получил хорошую оплеуху. Когда настал мой черед, я уже знал, как себя вести. Ты быстро учишься, когда видишь, как рядом с тобой кого-то избивают.
Нас начали кормить уже в камере предварительного заключения, но еда была просто отвратительной. Я вырос на хорошей еде и был по-своему привередлив: с моим дядей Кеном мы готовили спагетти Болоньезе и тушеное мясо, а с прабабушкой – жаркое из свежепойманных кроликов с только что сорванными с грядки овощами.
Еда в тюрьме оказалась еще хуже, чем в школьной столовой. На тарелку кидали кусок какой-то рыбы, бобы и пюре – я мог разве что только смотреть на это.
– Ты будешь это есть? – спросил мой сосед.
– Нет!
Парень взял мою тарелку и жадно принялся уплетать ее содержимое.
– Сколько еще тебе здесь сидеть? – поинтересовался я.
– Два года.
Он произнес это так, будто это две минуты. Там же я увидел еще одного чувака, которого посадили на семь лет за поджог – он вел себя точно так же. Я довольно быстро понял, что не похож на этих людей. Было что-то в их образе мышления. Я и сам не особо парился по поводу случившегося, но те парни совершенно не парились – вот в чем принципиальная разница. Я оказался там, потому что должен был там оказаться. Но по этим ребятам было видно, что для них это не первый и не последний срок, и их это, в отличие от меня, вполне устраивало. Я знал, что мне, парню из Ноул-Уэста, было на роду написано угодить за решетку. Но как я мог провести всю свою жизнь в тюрьме, если я даже не мог без отвращения смотреть на здешнюю пищу?
Я просто наблюдал за происходящим, и больше всего меня поразило, насколько быстро люди приспосабливались к окружающей их обстановке, как набрасывались на эту бурду в тарелке, будто им подавали Болоньезе или тушеного кролика. Это произвело на меня неизгладимое впечатление.
Из конвойного помещения вас сначала отправляют на обследование к врачу, а потом за всяким барахлом вроде подушки, простыни, одеяла и остального – вы берете это и тащите в камеру. Вот и все, с этого момента вы будете проводить там по двадцать три часа в сутки – и так до окончания срока. Каждый второй день вас будут выпускать оттуда на час в общую комнату, где есть телевизор, бильярд и дартс – они называют это «социализацией».
Если бы мне было восемнадцать лет, меня бы отправили во взрослую тюрьму, но поскольку мне на тот момент было еще семнадцать, я был помещен в блок для несовершеннолетних правонарушителей. Окна моей камеры выходили на главную дорогу. Внутри нас было двое: я и мой сокамерник. На стене висела фотография его девушки – она занималась балетом, не профессионально, но все же. Все мысли моего соседа были только о ней и о том, не изменяет ли она ему. Ему предстояло находиться в тюрьме дольше, чем мне. Надо сказать, что он уже бывал в этом заведении и знал здешние распорядки, например, как правильно застилать кровать – это нужно было делать определенным образом, иначе тебя могли наказать.
В этом плане он был куда осведомленнее меня. В тюрьме он чувствовал себя как рыба в воде. У него были самокрутки, и это все, что ему было нужно. Но мысли о девушке и о ее возможных изменах сводили его с ума. Я думаю, раз уж ты попал за решетку – о девушке стоит беспокоиться в последнюю очередь.
В первые дни заключения у меня случился приступ астмы, потому что ингалятор у меня отобрали сразу по прибытии. Мой сосед по камере, которого я еще толком не знал, был до смерти напуган происходящим, вероятно, даже больше, чем я. Надзиратели точно слышали, что происходит, но никто из них даже не попытался прийти мне на помощь. Я мог умереть, а они бы и пальцем не пошевелили. Вентолин мне принесли только на следующее утро: я сделал два вдоха, и лекарство забрали назад.
Как вы можете себе представить, это меня не на шутку разозлило. Я могу понять, почему людей отправляют в тюрьму, но в моей голове не укладывалось, как можно бездействовать, когда в паре метров от тебя человек умирает от приступа астмы? Эта ситуация еще больше укрепила во мне неприязнь к представителям власти.
В остальном проблем в тюрьме у меня не было: никто меня не доставал, и никто надо мной не издевался. За два месяца, проведенных там, я не увидел ничего плохого. Единственное, что меня действительно напрягало, – это скука. Тюрьма отупляет. Это просто невозможно. Сутки напролет ты находишься в камере размером с ванную комнату, фактически ничего не делая. Сидишь, болтаешь с соседом, выкуриваешь самокрутку и снова чешешь языком. Там нельзя поставить любимую музыку и немного расслабиться. Чудовищная скука, двадцать три часа из двадцати четырех ты просто сидишь и пялишься на голые стены. За два месяца у меня не было ни единого посетителя. В моей голове не было ничего, кроме желания поскорее выбраться оттуда.
Таким и было мое «приключение»: дерьмовая еда, скука и люди, говорившие: «Да, я застрял здесь на семь лет» и «а я на два года». Это все, что запомнилось мне за эти наполненные пустотой часы и дни. Я провел за решеткой всего лишь два месяца, но мне хватило этого сполна, чтобы понять, насколько быстро человек приспосабливается к новым для себя условиям.
После освобождения меня не покидало чувство, что я прошел некий обряд посвящения. Я был рад вновь оказаться на свободе. Мне было семнадцать. Помню, как наконец-то вернулся в Ноул-Уэст и меня буквально распирало от гордости: «Да, я отсидел!» Почему-то иногда мне даже казалось, что в этом есть что-то хорошее. Помню, когда я был в гостях у тетушки Марлоу, кузина Мишель спросила: «Ну, и как там было?» Я ответил: «Легко!» Она посмотрела на меня и сказала: «Не говори так, ты прошел через все это, потому что у тебя не было выбора!»
Скука, тюремные условия и случай с вентолином сделали свое дело: мне совершенно не понравилось находиться в неволе. Я чувствовал, что, находясь в тюрьме, сделал выбор, повлиявший на всю мою дальнейшую жизнь. Не сказал бы, что впоследствии у меня стало меньше проблем с законом, но там я понял, что такая жизнь не для меня, и с тех пор старался себя притормаживать: если у меня не было денег, я иногда, вместо краж и ограблений, старался найти себе легальную подработку на бирже труда. Интересно, как бы сложилась моя судьба, не окажись я тогда в Хорфилде?
Мои дяди были суровыми мужиками, и только лишь потому, что я не был настолько же крут, я не стал таким, как они. Я восхищался ими и тем, что их имена были известны всему Манчестеру и Бристолю. Если бы я был более жестким человеком, то, безусловно, пошел бы по их стопам, ведь подражание – следующий шаг после восхищения. Но по факту я не настолько крут. К счастью, я вовремя это осознал, и моя жизнь сложилась совсем иначе.
В подростковом возрасте в моем окружении точно были люди, не до конца уверенные в том, что я задержусь здесь надолго. Как-то я познакомился с одним парнем, который писал книгу об уличной жизни Бристоля. В ней он сказал обо мне следующее: «Если этот паренек доживет до двадцати, он действительно может кем-то стать».
Некоторые из моих родственников и старых друзей говорят, что всегда были уверены в том, что в своей жизни я сделаю нечто особенное. Уитли утверждает, что тоже всегда это знал. По его словам, когда я заходил в комнату – все вокруг затихали, а стоило мне появиться в клубе, атмосфера кардинально менялась. Если я начинал рассказывать историю – все бросали свои дела и слушали только меня. Эти маленькие «знаки», указывавшие на то, кем я в итоге стану, были повсюду. Но я их не замечал. Как будто все вокруг знали то, чего не знал я. Иногда я спрашиваю себя: как, черт возьми, я оказался там, где нахожусь сейчас?
Глава 4. Tarzan the High Priest
The Specials изменили все. Их первый альбом, вышедший в 1979 году, звучал так, словно мою жизнь перенесли на пластинку. Он так и назывался – «The Specials». Не могу точно сказать, когда впервые услышал его, ведь на момент выхода этого альбома мне было всего одиннадцать лет, но я сразу понял, что их музыка была написана именно для меня. Впервые у таких ребят, как я, появились свои представители на музыкальной сцене – на экране телевизора были точно такие же парни, как любой из нас!
Внезапно все стало на свои места – у нашего поколения появился собственный голос. Я всегда задавался вопросом: «Где мое место?» В Ноул-Уэсте я рос в окружении белых, а в Сент-Полсе, куда приезжал навестить отца, находился преимущественно среди черных. Порой мне казалось, что у меня было две разные жизни. К тому же я сам смешанного происхождения и рос в семье, где уживались люди с разным цветом кожи.
Когда я увидел The Specials – группу, в которой были как белые, так и темнокожие ребята, – у меня впервые появилось ощущение, что я не одинок и есть те, кто испытывает те же самые чувства. Песни с пластинки описывали мою жизнь: проблемы с полицией, тусовки в гетто, а позже и ночные походы по клубам. The Specials стали первыми из известных мне музыкантов, кто говорил о вещах, знакомых мне не понаслышке.
Терри Холл был белым парнем в одной группе с темнокожими – чем-то это напоминало мое детство в Ноул-Уэсте, только с точностью до наоборот. Слова песен The Specials западали мне в душу. Помимо Терри Холла в группе был также Невилл Стейпл. До этого ямайский язык я слышал только на пластинках с регги, записанных на Ямайке. Невилл был местным, но при этом выдавал четкий ямайский диалект на записях, вышедших в Англии.
The Specials заняли особое место в моем сердце и сердцах тысяч молодых людей с различным происхождением и цветом кожи по всей Англии. Они появились в самое нужное время в моей жизни, поскольку музыка быстро становилась все более и более важной ее составляющей. Вначале я слушал Билли Холидей с бабушкой Вайолет, Марвина Гэя у Кена Портера дома и регги, которое играл на улицах мой отец, а позже подсел на Марка Болана. Затем был недолгий период увлечения электронной музыкой: из всего многообразия исполнителей я предпочитал Гэри Ньюмана.
Когда мне стукнуло пятнадцать, я заинтересовался музыкой скинхедов. Странный выбор, если учесть, что некоторые из Oi!-групп (4-Skins, к примеру) предположительно были расистами. Изначально меня привлекала только музыка, но со временем я проникся и модой: в моем гардеробе появились вещи от Dr. Martens, Crombies, Fred Perry, брюки от Sta-Prest и так далее. Я бы не стал называть себя скинхедом – я не брил голову, но одевался в точности, как они. Начищенные до блеска ботинки и подтяжки – все это было частью культуры. Помню, как каждый вечер перед выходом из дома натирал обувь. Мы ходили по скинхед-клубам, где часто ставили Принц Бастер и подобную музыку, под которую мы с друзьями отплясывали в своих мартинсах.
После этого я вполне закономерно «трансформировался» в рудбоя: стал носить броги со слаксами и вскоре окончательно созрел для того, чтобы открыть для себя The Specials и Two-Tone14. В их музыке я находил себя, как ни в какой другой. Помню, как однажды, когда мне еще не было двадцати, сидя перед телевизором с кузиной Мишель, я увидел выступление Принса и подумал: «Бог ты мой, это еще что такое? Кто этот мужик в ботинках на высоких каблуках и что это за странная музыка?» Бесспорно, он был невероятно талантлив, но я совершенно точно не мог ассоциировать себя с этим человеком с экрана.
Глядя на Терри Холла, я думал: «Окей, я и сам так когда-нибудь смогу». В случае Принса, даже если бы я захотел стать музыкантом, все было иначе: «Нет, ничего не выйдет. Я не ношу обувь на высоком каблуке, не умею играть на всех инструментах на свете и не умею двигаться, как он». В то же время я смотрел на The Specials и понимал: «Охренеть, я могу стать музыкантом, ведь они такие же, как я!»
Благодаря Терри Холлу мне тоже захотелось быть в группе, ведь я точно так же, как и он, не был прирожденным певцом. Терри всему научился сам, и у него неплохо получалось. Бывало, я ставил пластинку The Specials, ложился на кровать и представлял, как пою на сцене вместе с ними. Уверен, что немало известных в то время групп тоже были родом из бедных районов или, по крайней мере, из небогатых семей. Но в отличие от многих, парни из The Specials, став знаменитыми, не разгуливали, задирая нос, словно рок-звезды – казалось, они остались совершенно такими же, какими были до этого.
То, насколько быстро музыка превратилась для меня в образ жизни, стало для меня своего рода откровением. Мои родственники хоть и любили музыку, но не придавали ей такого же значения, как я. Мартин не любил танцевать, разве что с ножом или разбитой бутылкой в руке. Мои дяди посещали клубы лишь тогда, когда хотели их отжать, сжечь или просто избить кого-нибудь, кто не выразил им должного уважения. Они точно не ходили туда для того, чтобы послушать музыку.
Но несмотря на это, в одной из наших бесед Мартин рассказал мне, что считает себя «человеком искусства». Когда он вырезал ножом слово «КРЫСА» на груди какого-то бедолаги, он сделал такую же надпись, но уже более мелкими буквами еще и на его лбу. Я спросил его: «Зачем ты сделал вторую надпись?» На что Мартин ответил: «Потому что у меня творческая натура». Вероятно, в его словах была доля правды. Кто-то рассказывал мне, что Мартин вроде как немного умел играть на пианино, но сам он ни разу об этом не заикался.
В домах, где я воспитывался и рос, никто не рисовал, не писал книг и не играл на музыкальных инструментах. И совершенно точно в Ноул-Уэсте никогда не проводилось концертов. Там вообще ничего не происходило. Единственное музыкальное событие, о котором я слышал, произошло уже после моего отъезда: Тим Вествуд выступил в Ноул-Уэсте со своим диджей-сетом, и поговаривают, что его там ограбили – кто-то вломился в гастрольный автобус и перевернул все вверх дном. В Ноул-Уэсте всегда было только одно питейное заведение, Venture Inn, расположенное в здании из красного кирпича на площади Мелвин – это место славилось своими агрессивными посетителями, что, вероятно, и стало причиной его закрытия.
Когда моя бабушка переехала в Тоттердаун, я перебрался жить к ней. Для нас обоих это стало «шагом вперед»: хороший, более престижный район ближе к центру города и совсем недалеко от железнодорожной станции Темпл Мидс. В Тоттердауне были магазины, пабы и приличные школы. К тому же он был более многонациональным. Здесь я впервые увидел индийцев и пакистанцев, так что, можно сказать, мой кругозор начал расширяться. В Тоттердауне царила уютная и семейная атмосфера, но местами район все равно походил на гетто – он точно не смахивал на шикарный пригород вроде Клифтона.
Бабушка Вайолет никогда не была против моих ночных прогулок: я мог выходить из дома, когда мне заблагорассудится. Никто не говорил мне: «Марш в постель!» В семье Уитли также довольно лояльно относились к этому вопросу, так что с пятнадцати лет мы фактически не ночевали дома. Никаких тебе нравоучений в духе «ты должен вернуться не позже одиннадцати!», как это было у некоторых из моих друзей. Возможно, именно это стало еще одной причиной, почему из всех ребят, с кем я общался, Уитли был мне ближе всего.
Такие же правила действовали и в доме тетушки Марлоу. Вместе с Уитли мы все чаще проводили вечера в клубах, слушая музыку. Не думаю, что бабушка с тетей знали, где мы пропадаем ночами напролет, но им всегда хотелось, чтобы мы были независимыми. Помню, что даже в Рождество, когда я жил у бабушки, я отправлялся гулять сразу же после застолья. Я ненавидел этот праздник, потому что знал: после ужина заняться будет абсолютно нечем. Я выходил на угол нашего квартала и в полном одиночестве выкуривал сплиф, в то время как все мои приятели сидели по домам – их не выпускали родители. Бабушка, напротив, всегда поощряла мои ночные похождения.