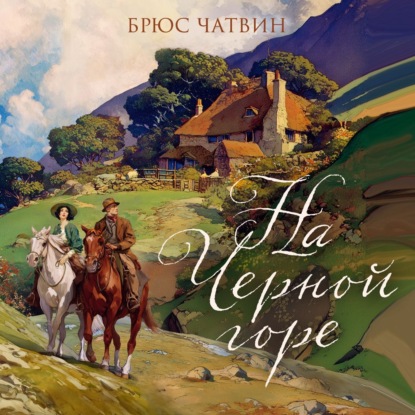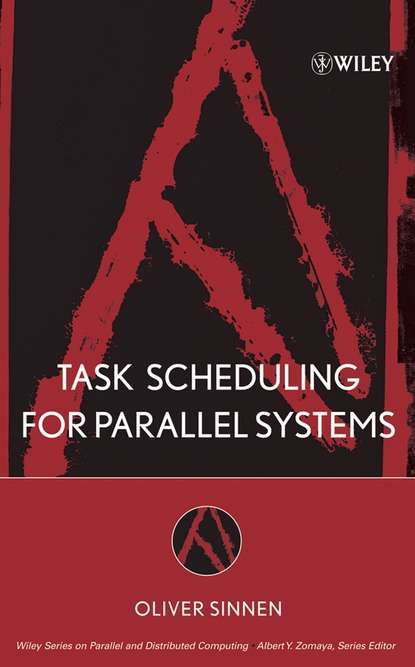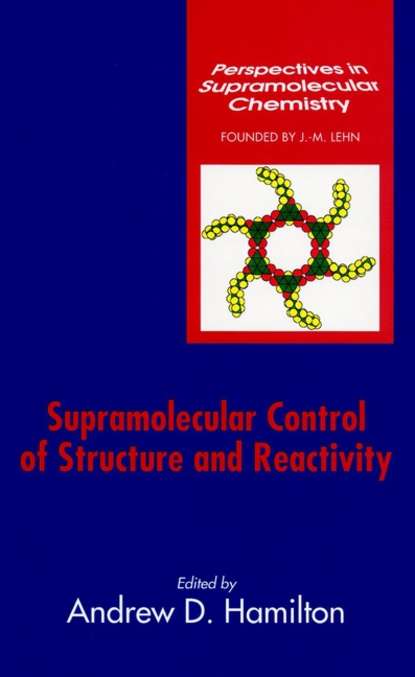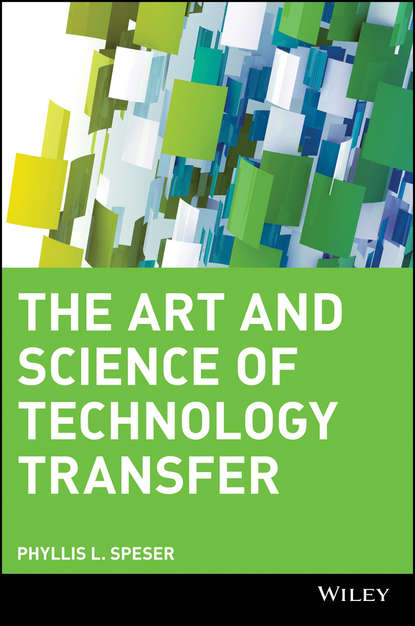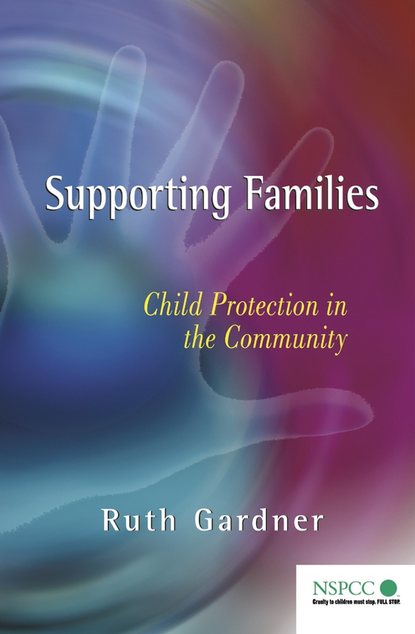Барсетширские хроники: Доктор Торн
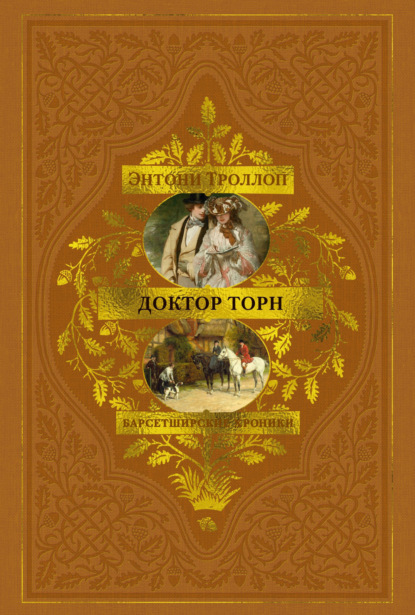
- -
- 100%
- +
Но когда приехала Мэри, или, скорее, накануне ее приезда, заведенный в докторском доме порядок коренным образом изменился. Прежде соседи – в частности, миссис Амблби – дивились, как это такой джентльмен, как доктор Торн, может жить настолько безалаберно, а теперь они – и опять-таки в первую очередь миссис Амблби – взять не могли в толк, с какой стати доктор считает нужным вкладывать такие деньги в меблировку дома только потому, что к нему переезжает девчонка двенадцати лет от роду.
Да, миссис Амблби было чему подивиться! Доктор перевернул дом кверху дном и обставил его заново от подвала до крыши. Он красил – впервые с тех пор, как тут обосновался, – он клеил обои, он расстилал ковры, вешал шторы и зеркала и закупался постельным бельем и одеялами, как будто уже завтра ожидал приезда миссис Торн, новобрачной с богатым приданым, и все это – для двенадцатилетней племянницы! «И как, как он только разобрался, что именно следует купить?» – вопрошала миссис Амблби свою закадычную подругу мисс Гашинг, как если бы доктор воспитывался среди диких зверей, не ведая о назначении столов и стульев и не лучше бегемота разбираясь в обивке гостиной.
К вящему изумлению миссис Амблби и мисс Гашинг, доктор неплохо справился. Он никому не сказал ни слова – на такие темы он вообще предпочитал не распространяться, – но дом обставил хорошо, со вкусом, и когда Мэри Торн приехала домой из школы в Бате, куда ее отдали лет шесть назад, оказалось, что ее назначили духом-хранителем настоящего рая.
Как рассказывалось выше, доктор сумел расположить к себе молодого сквайра еще до смерти старого, и перемены в Грешемсбери никак не повредили его профессиональным интересам. Именно так обстояли дела в ту пору, а вот в том, что касается медицинских сфер, в Грешемсбери не все шло гладко. Между мистером Грешемом и доктором была разница в шесть-семь лет, и более того, мистер Грешем выглядел моложе своего возраста, а доктор – старше, однако ж эти двое крепко сдружились еще в юности. Эти теплые отношения более или менее сохранялись в последующие годы, и при такой поддержке доктор и впрямь не один год продержался под огнем артиллерии леди Арабеллы. Но капля, как говорится, камень точит – ежели долбить не переставая.
Самоуверенность доктора Торна вкупе с его завиральными демократическими идеями в профессиональной сфере и семишиллингово-шестипенсовыми гонорарами, а равно и глубокое безразличие к гонору леди Арабеллы переполнили чашу ее терпения. Доктор Торн благополучно справился с первыми детскими болезнями Фрэнка, чем поначалу снискал расположение ее милости; также преуспел он и с правильным питанием для Августы и Беатрис, но поскольку успехи его были достигнуты в прямом противоречии с принципами воспитания, принятыми в замке Курси, в пользу доктора это никак не зачлось. Когда родилась третья дочь, доктор Торн сразу заявил, что ребенок очень слабенький, и строго-настрого запретил матери ездить в Лондон. Мать из любви к своей малютке послушалась, но еще сильнее возненавидела доктора за предписание, назначенное, как она твердо верила, по подсказке и не иначе как под диктовку мистера Грешема. Затем на свет появилась еще одна дочка; доктор Торн еще категоричнее прежнего настаивал на соблюдении строгого распорядка в детской и на пользительности сельского воздуха. Начались ссоры; леди Арабелле внушили, что этот лекарь, любимчик ее мужа, все-таки не царь Соломон. В отсутствие сквайра она послала за доктором Филгрейвом, недвусмысленно намекнув, что встреча с врагом, оскорбляющим его взор и достоинство, ему не грозит. Иметь дело с доктором Филгрейвом оказалось не в пример приятнее.
Тогда доктор Торн дал мистеру Грешему понять, что в сложившихся обстоятельствах не может больше оказывать профессиональные услуги обитателям Грешемсбери. Бедняга сквайр понимал, что ничего тут не поделаешь, и хотя по-прежнему поддерживал дружбу с соседом, визитам за семь шиллингов и шесть пенсов был положен конец. Доктор Филгрейв из Барчестера и джентльмен из Сильвербриджа поделили между собой ответственность за здоровье грешемсберийского семейства, и в Грешемсбери снова вступили в силу воспитательные принципы замка Курси.
Так продолжалось несколько лет, и годы эти стали годами скорби. Не будем ставить в вину врагам доктора воспоследовавшие страдания, и болезни, и смерти. Возможно, четыре хворых малютки все равно бы не выжили, даже будь леди Арабелла терпимее к доктору Торну. Но факт остается фактом: дети умерли, и материнское сердце возобладало над женской гордостью, и леди Арабелле пришлось уничижаться перед доктором Торном. Точнее, она уничижалась бы, если бы доктор ей позволил. Но он, с полными слез глазами, прервал поток ее извинений, взял ее руки в свои, тепло их пожал и заверил, что с превеликой радостью вернется из любви ко всем без исключения обитателям Грешемсбери. Визиты за семь шиллингов шесть пенсов возобновились, и великий триумф доктора Филгрейва завершился.
В детской Грешемсбери эта перемена была встречена бурным восторгом. Среди качеств доктора, до сих пор не упомянутых, было умение находить общий язык с детьми. Он охотно разговаривал и возился с ними. Он катал их на закорках, троих-четверых за раз, кувыркался вместе с ними в траве, бегал взапуски по саду, придумывал для них игры, находил, чем развлечь и рассмешить их в обстоятельствах, заведомо не располагающих к веселью, и, главное, его лекарства были совсем не такими горькими и невкусными, как те, что поступали из Сильвербриджа.
Доктор Торн разработал целую теорию касательно счастья детей и, хотя не предлагал вовсе отказываться от заповедей царя Соломона (при условии, что самому ему ни при каких обстоятельствах не придется быть исполнителем), говорил, что первейший долг родителя перед ребенком – это сделать его счастливым. Причем по возможности не когда-нибудь потом – речь идет не только о будущем взрослом, – нет, сегодняшний мальчик заслуживает такого же обхождения, а его осчастливить, утверждал доктор, куда легче.
«Зачем радеть о будущем благе ценой страданий в настоящем, тем более что и результат настолько сомнителен?» Многие противники доктора думали поймать его на слове, когда тот излагал столь необычную доктрину, однако ж удавалось не всегда. «Как! – восклицали здравомыслящие оппоненты. – Неужто маленького Джонни не следует учить читать потому лишь, что ему это не нравится?» – «Джонни всенепременно должен уметь читать, – парировал доктор, – но почему бы ему не получать удовольствие от чтения? Если наставник не вовсе бездарен, может быть, Джонни не только научится читать, но и полюбит учиться?»
«Но детей необходимо держать в узде», – твердили его противники. «И взрослых тоже, – обыкновенно ответствовал доктор. – Я не должен воровать ваши персики, увиваться за вашей женой и чернить вашу репутацию. Как бы ни хотелось мне в силу врожденной греховности предаться этим порокам, для меня они запретны – и запрет этот не причиняет мне страданий и, скажу без преувеличения, даже и не особо меня огорчает».
Вот так они спорили и спорили, и ни одному не удалось переубедить другого. А тем временем дети всей округи очень привязались к доктору Торну.
Доктор Торн и сквайр по-прежнему оставались хорошими друзьями, но в силу обстоятельств, которые растянулись на много лет, бедняга сквайр чувствовал себя неловко в обществе доктора. Мистер Грешем задолжал крупную сумму денег и, более того, продал часть принадлежавших ему земель. К несчастью, Грешемы всегда гордились правом свободного распоряжения наследственным имуществом: каждый новый владелец Грешемсбери имел полную власть поступить со своей собственностью так, как считал нужным. Что имение перейдет в целости и сохранности к наследнику по мужской линии, никто прежде не сомневался. Время от времени собственность бывала обременена выплатами в пользу младших детей, но выплаты эти были давно погашены, и нынешнему сквайру собственность досталась без каких бы то ни было обременений. А теперь часть угодий продали – и продали в некотором смысле через посредничество доктора Торна.
Сквайра это глубоко печалило. Он как никто другой дорожил родовым именем и родовой честью, древним фамильным гербом и репутацией; он был Грешемом до мозга костей, но духом оказался слабее пращуров, и при нем Грешемы впервые оказались в стесненных обстоятельствах! За десять лет до начала нашей истории понадобилось раздобыть крупную сумму, чтобы выплатить срочные задолженности, и, как выяснилось, это можно было сделать с большей выгодой, продав часть угодий, нежели как-то иначе. В результате земельные владения сократились примерно на треть.
Боксоллский холм высился на полпути между Грешемсбери и Барчестером и славился лучшими в графстве угодьями для охоты на куропаток; кроме того, барсетширские охотники высоко ценили тамошние знаменитые лисьи урочища – Боксоллский дрок. На холме никто не жил; он стоял отдельно от остальных грешемсберийских земель. Его-то, повздыхав про себя и вслух, мистер Грешем в конце концов позволил продать.
Итак, Боксоллский холм был продан, и продан за хорошие деньги, по частному соглашению, уроженцу Барчестера, который, поднявшись из низов, составил себе огромное состояние. О характере этого человека мы поведаем позже, довольно сказать, что в денежных вопросах он полагался на советы доктора Торна и именно по предложению доктора Торна приобрел Боксоллский холм, включая право охоты на куропаток и дроковые урочища. Он не только купил Боксоллский холм, но впоследствии еще и ссужал сквайру крупные суммы под закладные, и во всех этих сделках участвовал доктор. Вот так случилось, что мистер Грешем нередко бывал вынужден обсуждать с доктором Торном денежные вопросы и время от времени выслушивать нравоучения и советы, без которых охотно обошелся бы.
Но довольно о докторе Торне. Прежде чем приступить к нашей истории, нужно сказать несколько слов и про мисс Мэри: взрежем-ка корочку пирога и приоткроем глазам гостей начинку! До шестилетнего возраста маленькая мисс Мэри жила на ферме, после чего ее отдали в школу в Бате и шесть с чем-то лет спустя переселили в заново меблированный докторский дом. Разумеется, за все эти годы доктор Торн ни разу не терял свою воспитанницу из виду: он со всей ответственностью отнесся к обещанию, которое дал уезжающей матери. Он то и дело навещал малышку-племянницу и задолго до того, как ей исполнилось двенадцать, об обещании и о своем долге перед матерью уже и думать забыл – узы любви к единственной родной душе оказались не в пример сильнее.
Когда Мэри приехала домой, доктор радовался как дитя. Он приготовил для нее сюрпризы так продуманно и тщательно, словно закладывал мины, чтобы подорвать врага. Сперва он показал племяннице аптечную лавку, затем кухню, затем столовые, затем спальни, свою и ее, пока не дошел до обновленной гостиной во всем ее великолепии, подкрепляя удовольствие шуткой-другой и доверительно рассказывая девочке, что в этот последний круг рая он никогда не дерзнул бы войти без ее дозволения и не сняв сапог. Мэри была мала, но шутку оценила и, подыгрывая дяде, держалась как маленькая королева; очень скоро они уже стали друзьями не разлей вода.
Но даже королевам необходимо образование. Как раз в то время леди Арабелла смирила свою гордыню – и в знак своего смирения пригласила Мэри брать уроки музыки вместе с Августой и Беатрис в большом доме. Учитель музыки из Барчестера приезжает-де трижды в неделю и занятие длится три часа, и если доктор не против, пусть его девочка тоже посидит-послушает, она ведь никому не помешает. Так сказала леди Арабелла. Доктор с благодарностью и не колеблясь принял предложение, добавив только, что сам договорится с синьором Кантабили об оплате. И выразил свою глубокую признательность леди Арабелле за то, что та позволила его маленькой воспитаннице присоединиться к урокам обеих мисс Грешем.
Нужно ли говорить, что леди Арабелла тут же вспыхнула? Платить сеньору Кантабили! Нет, ни в коем случае, она сама все уладит; и речи не может идти ни о каких дополнительных расходах в связи с договоренностью касательно мисс Торн! Но и здесь, как в большинстве случаев, доктор поступил по-своему. Леди Арабелла, до поры усмиренная, протестовала не так бурно, как могла бы, и в какой-то момент, к немалой своей досаде, осознала, что Мэри Торн учится музыке в усадебной классной комнате на равных правах в том, что касается оплаты, с ее собственными дочерями. Нарушить договоренность, однажды достигнутую, уже не представлялось возможным, тем более что юная леди не вызывала никаких нареканий и тем более что обе мисс Грешем очень к ней привязались.
Так что Мэри Торн обучалась музыке в Грешемсбери, а вместе с музыкой и много чему другому: вести себя в обществе сверстниц, изъясняться и поддерживать беседу подобно другим юным леди, одеваться, двигаться и ходить. Все это, будучи сообразительной от природы, она без труда усваивала в большом доме. Понахваталась она и французского, ведь грешемсберийская гувернантка-француженка все время находилась в комнате вместе со своими подопечными.
А затем, несколько лет спустя, в деревню приехали новый приходской священник и его сестра: вместе с ней Мэри занималась немецким, а также и французским. Многому она научилась от самого доктора, например правильно выбирать книги для чтения на родном языке; от него же девочка переняла образ мыслей – отчасти сродни его собственному, но смягченный женской деликатностью ее натуры.
Так Мэри Торн росла и получала образование. Конечно же, мой долг как автора – рассказать хоть что-нибудь и о ее внешности. Она героиня моего романа, а значит, непременно должна быть красавицей, но, по правде говоря, в моем сознании яснее запечатлены ее ум и душевные качества, нежели облик и черты лица. Я знаю, что красота ее была неброской: рост – невысокий, руки и ноги – маленькие и изящные, глаза – ясные, если присмотреться, но не настолько ярко сияющие, чтобы сияние это было заметно всем вокруг, волосы – темно-каштановые (Мэри носила очень простую прическу, зачесывая их со лба назад), губы – тонкие, а линия рта, в целом, вероятно, ничем не примечательная, в пылу спора одушевлялась и обретала изгиб весьма решительный, и, хотя обычно Мэри держалась скромно и сдержанно, а весь ее облик дышал спокойной безмятежностью, ей случалось, увлекшись, говорить с таким жаром, что, по правде сказать, удивлялись все, кто ее не знал – да порою даже и те, кто знал. С жаром! Нет, с такой пламенной страстностью, что в тот миг она забывала обо всем, кроме той истины, которую отстаивала.
Все ее друзья и близкие, включая доктора, порою огорчались при виде такой горячности, но любили девушку тем сильнее. Эта неуемная пылкость характера в самые первые годы едва не послужила причиной изгнания Мэри из грешемсберийской классной комнаты, но в конце концов настолько укрепила ее право там находиться, что теперь уже и леди Арабелла при всем желании не смогла бы этому воспротивиться.
В ту пору в Грешемсбери приехала новая гувернантка-француженка и стала – или неминуемо стала бы – любимицей леди Арабеллы, поскольку обладала всеми великими достоинствами, полагающимися гувернантке, и в придачу являлась протеже за́мка. Под «замком» на языке Грешемсбери неизменно подразумевался замок Курси. Очень скоро пропал дорогой медальон, принадлежащий Августе Грешем. Гувернантка запретила девочке надевать украшение в классной комнате, и молоденькая служанка, дочка мелкого арендатора, отнесла его в спальню. Медальон пропал, и происшествие наделало немало шуму, но спустя какое-то время пропажа обнаружилась, благодаря ревностному усердию гувернантки-француженки, в личных вещах служанки-англичанки. Леди Арабелла пылала праведным гневом, девушка громко все отрицала, отец ее скорбел молча, несчастная мать лила слезы, приговор мира Грешемсбери был неумолим. Но почему-то, теперь уже не важно почему, Мэри Торн не разделяла всеобщей убежденности. Мэри высказалась вслух – и открыто обвинила гувернантку в воровстве. Два дня Мэри пребывала в опале почти столь же суровой, как и фермерская дочка. Но и будучи в опале, Мэри не утихомиривалась и не молчала. Когда леди Арабелла отказалась ее выслушать, девочка пошла к мистеру Грешему. Она заставила дядю вмешаться. Она перетянула на свою сторону одного за другим влиятельных жителей прихода и в конце концов преуспела: мамзель Ларрон рухнула на колени и признала свою вину. С тех пор все арендаторы Грешемсбери души не чаяли в Мэри Торн, особенно же полюбили ее в одном маленьком домике, где грубоватый отец семейства, в речах не церемонясь, частенько восклицал вслух, что ради Мэри Торн бросит вызов человеку или окружному судье, герцогу или даже самому дьяволу.
Так Мэри Торн росла и взрослела под приглядом доктора, и в начале нашего рассказа оказалась в числе гостей, собравшихся в Грешемсбери в день совершеннолетия наследника; к слову сказать, ей и самой исполнилось столько же.
Глава IV
Уроки замка Курси
День рождения молодого Фрэнка Грешема приходился на первое июля. Лондонский сезон еще не закончился, тем не менее леди Де Курси сумела-таки выбраться в провинцию, дабы украсить своим присутствием празднество в честь совершеннолетия наследника, и привезла с собою всех молодых леди – Амелию, Розину, Маргаретту и Александрину – и всех Досточтимых Джонов и Джорджей, каких только удалось по такому случаю собрать.
В этом году леди Арабелла ухитрилась провести в городе десять недель, что с небольшой натяжкой сошло за целый сезон, и более того, сумела наконец заново меблировать гостиную на Портман-сквер, причем не без элегантности. Она уехала в Лондон под насущно-важным предлогом – показать Августу зубному врачу (в подобных случаях зубы юных леди зачастую оказываются очень даже кстати) и, выговорив себе разрешение на покупку нового ковра, в котором и впрямь была нужда, воспользовалась мужниным согласием так ловко, что счет от обойщика составил шестьсот или семьсот фунтов. Разумеется, держала она и карету, и лошадей; дочери ее, разумеется, выезжали; безусловно, на Портман-сквер принимали друзей, хотя бы иногда – а как же иначе? Так что, в общем и целом, десять недель в Лондоне были не лишены приятства – и обошлись недешево.
Перед самым обедом леди Де Курси и ее золовка ненадолго уединились в гардеробной хозяйки и принялись перемывать косточки вздорному сквайру, который резче обычного отозвался о сумасбродстве – вероятно, он использовал более крепкое словцо – нынешнего лондонского выезда.
– Боже милосердный! – воскликнула графиня с чувством. – А он чего ожидал? Чего он от вас хочет?
– Он хотел бы продать лондонский дом и навеки похоронить нас всех здесь, в глуши. Прошу заметить, я ведь в столице всего-навсего десять недель пробыла!
– Да за это время девочкам и зубов-то толком не залечить! Но, Арабелла, что он говорит? – Леди Де Курси не терпелось узнать всю правду и по возможности убедиться, так ли на самом деле беден мистер Грешем, как пытается казаться.
– Ох, он не далее как вчера заявил, что никто больше в Лондон не поедет, что он едва сумел расплатиться по счетам, притом что содержание усадебного дома обходится недешево, и что он не допустит…
– Чего не допустит?
– Сказал, не допустит, чтобы бедняга Фрэнк пошел по миру!
– Фрэнк – пошел по миру!
– Вот прямо так и сказал.
– Но, Арабелла, неужели все так плохо? Откуда бы у него долги?
– Он вечно твердит о тех выборах.
– Дорогая моя, он же полностью рассчитался с кредиторами, продав Боксоллский холм. Безусловно, у Фрэнка не будет такого дохода, как в ту пору, когда вы выходили замуж, мы все это понимаем. И кого же мальчик должен за это благодарить, как не родного отца? Но Боксоллский холм продан и все долги выплачены, так сейчас-то в чем беда?
– А все эти мерзкие псы, Розина, – воскликнула леди Арабелла, с трудом сдерживая слезы.
– Я со своей стороны никогда не одобряла идеи насчет псарни. Нечего собакам делать в Грешемсбери. Если у человека заложено имущество, ему не следует входить в расходы сверх самого необходимого. Это золотое правило мистеру Грешему неплохо бы затвердить. Более того, я ему так и сказала, ровно в этих же словах, но все, что исходит от меня, мистер Грешем принимает в штыки. Вежливости от него не дождешься.
– Знаю, Розина, знаю; и однако ж где б он сейчас был, если бы не семья Де Курси? – Так воскликнула исполненная благодарности леди Арабелла; по правде сказать, если бы не Де Курси, мистер Грешем сейчас, возможно, стоял бы на вершине Боксоллского холма, по-королевски озирая сверху все свои владения.
– Как я уже начала говорить, – продолжала графиня, – я никогда не одобряла этой идеи насчет переезда псарни в Грешемсбери, и однако ж, дорогая моя, не собаки же съели все подчистую! Человек с годовым доходом в десять тысяч может позволить себе держать гончих, а уж тем более учитывая подписку.
– Он жаловался, что подписка приносит очень мало или вообще ничего.
– Чепуха, дорогая моя. Однако ж, Арабелла, что он делает со своими деньгами? Вот в чем вопрос. Он играет?
– Нет, не думаю, – очень медленно протянула леди Арабелла. Если сквайр и играл, то хорошо наловчился это скрывать – он редко отлучался из Грешемсбери, и, надо признать, мало кто из гостей усадьбы походил на игрока. – Играть-то он вряд ли играет. – Леди Арабелла особо подчеркнула слово «играть», как если бы ее муж, милосердно оправданный в том, что касается пристрастия к азартным играм, был, конечно же, привержен всем прочим порокам, известным в цивилизованном мире.
– Я знаю, что когда-то он играл, – с видом умудренным и довольно-таки подозрительным проговорила леди Де Курси. У нее, безусловно, было достаточно причин личного характера порицать эту пагубную склонность. – Когда-то играл, а ведь стоит только начать, и окончательно от этой вредной привычки уже не излечишься.
– Что ж, если и так, мне о том ничего неизвестно, – ответила леди Арабелла.
– Но куда-то же деньги уходят, дорогая моя. А чем он отговаривается, когда вы сообщаете ему о своих нуждах – самых что ни на есть обычных повседневных надобностях, к которым вы привычны с детства?
– Ничем не отговаривается; иногда сетует, что семья такая большая.
– Чушь! Девочки ничего не стоят, а из мальчиков у вас один только Фрэнк, да и тот пока обходится недорого. Может, сквайр откладывает деньги, чтобы выкупить обратно Боксоллский холм?
– Нет-нет, – запротестовала леди Арабелла. – Ничего он не откладывает, не откладывал и не будет, хотя со мной так прижимист. Он и в самом деле крайне стеснен в средствах, я точно знаю.
– Тогда куда же деваются деньги? – вопросила графиня Де Курси, буравя золовку суровым взглядом.
– Одному Господу ведомо! Между прочим, Августа выходит замуж. И мне, конечно, несколько сотен фунтов не помешали бы. Слышали бы вы, как он стенал, когда я у него их попросила! Одному Господу ведомо, куда деньги уходят! – И оскорбленная в лучших чувствах жена утерла горестную слезинку парадным батистовым платочком. – На мою долю достаются все страдания и лишения жены бедняка и никакого утешения. Муж мне не доверяет, ничего мне не рассказывает, никогда не говорит со мною о делах. Если он с кем и откровенничает, то лишь с этим кошмарным доктором.
– Как, с доктором Торном?
А надо сказать, что графиня Де Курси ненавидела доктора Торна лютой ненавистью.
– Да, с ним. Сдается мне, Розина, этот доктор Торн знает все и вечно лезет со своими советами. Я почти уверена, что во всех несчастьях бедняги Грешема именно он и повинен; готова поклясться, так оно и есть.
– Очень странно! Мистер Грешем, при всех своих недостатках, джентльмен; как он может обсуждать свои дела с жалким аптекаришкой, у меня просто в голове не укладывается. Лорд Де Курси не всегда обходится со мною так, как должно, увы, – и леди Де Курси перебрала в мыслях обиды куда более серьезного свойства, нежели выпали на долю ее золовки, – но уж такого в замке Де Курси не водилось. Амблби ведь в курсе происходящего, правда?
– Амблби не знает и половины того, что знает доктор, – вздохнула леди Арабелла.
Графиня удрученно покачала головой; самая мысль о том, чтобы мистер Грешем, почтенный сельский сквайр, выбрал в конфиданты сельского врача, оказалась слишком сильным потрясением для ее нервов, и какое-то время она вынужденно сидела молча, приходя в себя.
– Во всяком случае, Арабелла, не подлежит сомнению одно, – промолвила графиня, как только успокоилась достаточно, чтобы снова раздавать советы приличествующе непререкаемым тоном. – Одно, во всяком случае, не подлежит сомнению: если мистер Грешем настолько стеснен в средствах, как вы говорите, Фрэнк просто обязан жениться на деньгах. Таков его непреложный долг. Наследник четырнадцати тысяч в год может позволить себе искать в невесте знатности, как поступил мистер Грешем, дорогая моя, – (следует понимать, что это не было комплиментом, ведь леди Арабелла всегда считала себя красавицей), – или красоты, как некоторые мужчины, – продолжала графиня, думая о выборе, когда-то сделанном нынешним графом Де Курси, – но Фрэнк обязан жениться на деньгах. Надеюсь, он поймет это вовремя; внушите ему эту истину прежде, чем он наделает глупостей. Когда молодой человек все понимает и знает, что от него требуется в создавшихся обстоятельствах, он легко свыкается с необходимостью. Надеюсь, Фрэнк сознает, что выбора у него нет. В его положении он обязан жениться на деньгах.