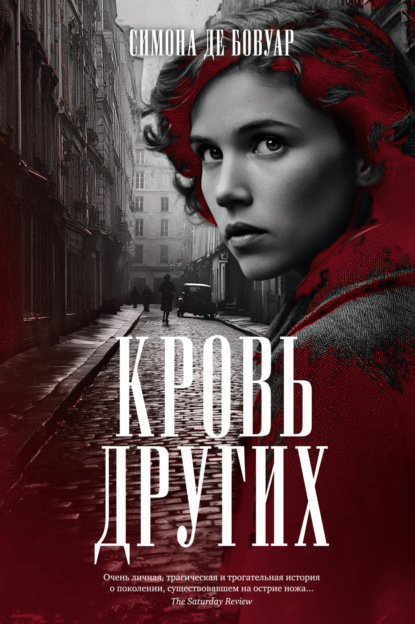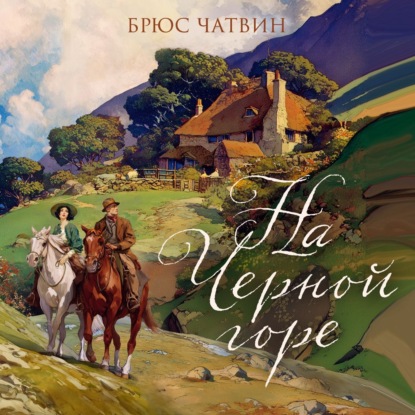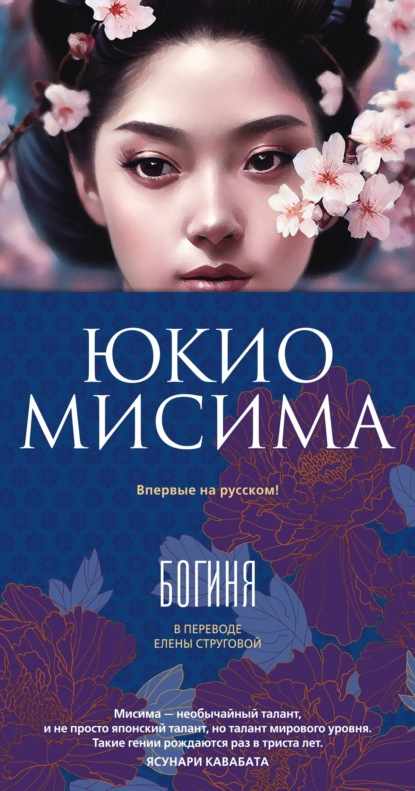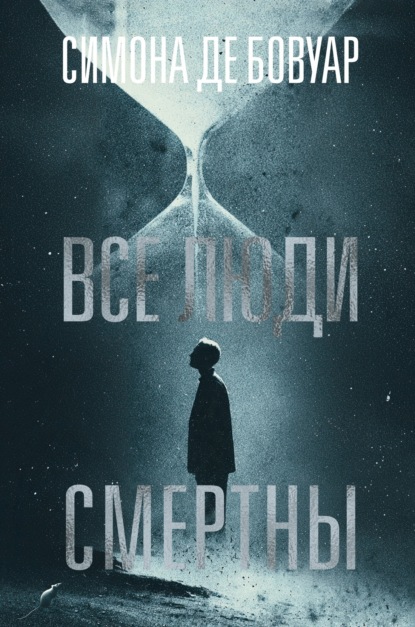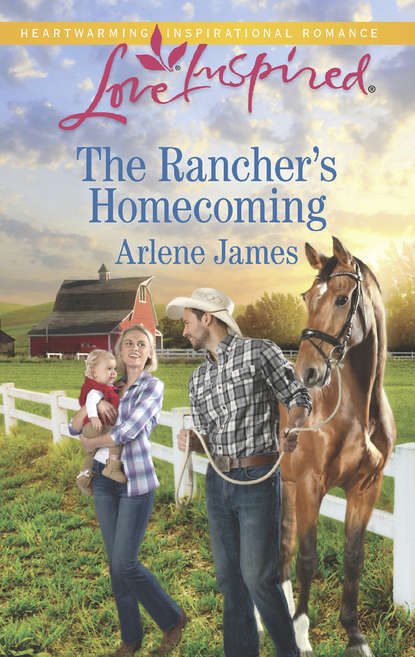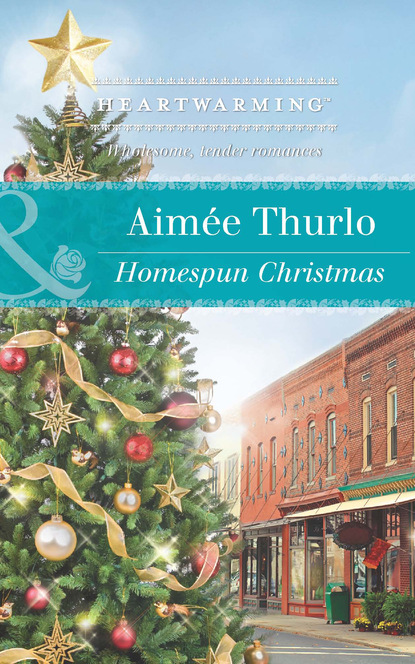Барсетширские хроники: Смотритель. Барчестерские башни
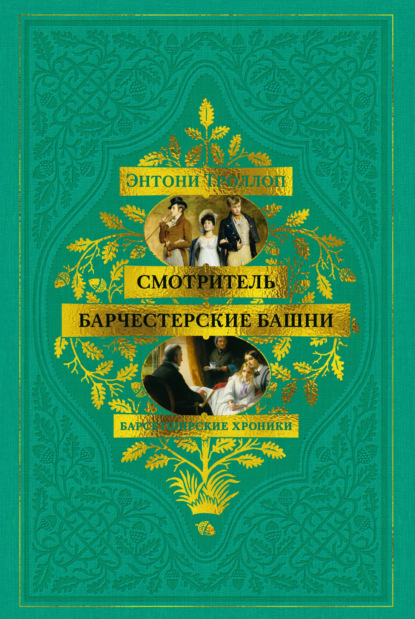
- -
- 100%
- +

Anthony Trollope
THE WARDEN. BARCHESTER TOWERS
Перевод с английского Екатерины Доброхотовой-Майковой, Ирины Гуровой
© Е. М. Доброхотова-Майкова, перевод, примечания, предисловие, 2018, 2025
© И. Г. Гурова (наследник), перевод, примечания, 1970
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство АЗБУКА», 2025 Издательство Азбука®
* * *Предисловие
«Барсетширские хроники» – цикл из шести романов, опубликованных в 1855–1867 гг. и связанных местом действия (вымышленное графство Барсетшир) и несколькими сквозными персонажами, как в «Человеческой комедии» Бальзака. К тому времени, как был напечатан первый из них, «Смотритель», Троллопу было уже сорок. За предшествующие десять лет он издал три романа, два из ирландской жизни и один исторический; все три остались не замеченными публикой и принесли издателям одни убытки; после каждого молодому автору советовали забыть о литературной карьере, но он упорно продолжал писать – главным образом в разъездах по делам почтового ведомства, в котором служил. Позже, высмеивая свои тогдашние злоключения, Троллоп вложил в уста одного из героев такую фразу: «Издатель говорит, надо непременно обличить какие-нибудь безобразия нашего времени. Он предложил мне на выбор три или четыре: фальсификация пищевых продуктов, недостаток образования для бедных, уличная музыка и продажа ядов».
Потому ли, что решил внять этому совету, или почему еще, но в «Смотрителе» Троллоп затронул злободневный политический вопрос. В «Автобиографии» писатель рассказывает, что замысел «Смотрителя» родился у него в Солсбери, где он оказался по делам почтового ведомства. Солсбери с его древним собором стал прообразом Барчестера. В то время происходило несколько крупных скандалов, связанных с распределением церковных средств на благотворительность. Поскольку они упоминаются в «Смотрителе», о них стоит рассказать подробнее. Первое из них – дело Больницы Святого Креста, средневековой богадельни в Винчестере, неподалеку от Солсбери. С 1808 г. ее смотрителем назначили преподобного Фрэнсиса Норта, который после смерти двоюродного брата сделался графом Гилфордом (у Троллопа в романе он ошибочно называется Гилдфордом). Норт-Гилфорд был сыном епископа Винчестерского, так что место, без сомнения, досталось ему по протекции. Впрочем, он был добрым смотрителем и честно распределял средства между подопечными (около тысячи фунтов в год на 13 стариков в богадельне и каждодневные обеды еще для 200 бедняков), однако огромные суммы, выплачиваемые арендаторами при продлении аренды, шли лично ему, так что за сорок с лишним лет в должности он получил около 300 000 фунтов. В 1854 г. после парламентских слушаний и суда жалованье Гилфорда урезали до 250 фунтов в год и обязали его вернуть часть денег за последние четыре года. В 1855 г. Гилфорд, не выдержав газетных нападок, ушел в отставку с поста смотрителя богадельни. Второй скандал был связан с епархиальной грамматической школой в Рочестере. В 1848 г. ее директор преподобный Роберт Уистон потребовал, чтобы настоятель и каноники проиндексировали стипендии двадцати ученикам школы, прописанные в соборном статуте 1545 г., как индексируют выплаты себе самим. Уистон на свои деньги напечатал обличительный памфлет, и его тут же уволили из школы. Однако он обратился в суд, который признал его виновным в клевете, но не счел клевету достаточно серьезной для увольнения. Уистона восстановили в должности, стипендии ученикам повысили. В оправдание рочестерских клириков следует добавить, что средства на ремонт школы и на обучение (оно было бесплатным) выплачивались в новых ценах, стипендии же, введенные после роспуска монастырей в качестве компенсации за то, что ученики не могут больше питаться за монастырским столом, не индексировали, поскольку считали архаическим пережитком.
В этих и подобных скандалах Троллопа, по его словам, поразили два противоположных зла и тот факт, что они еще не отражены в литературе. Первое зло – что средства, которые могли бы служить благотворительным целям, служат источником дохода для праздных священнослужителей. Второе зло – та ярость, с которой газеты обрушивались на держателей этих синекур, людей, которые сами ни в чем, собственно, не провинились. Ему пришла мысль, что оба эти зла можно обличить – вернее, описать – в одном романе, изобразить ситуацию объективно и вникнуть в доводы обеих сторон. «Я мог изобразить жирного красноносого священника, открыто манкирующего своим долгом, жирующего на деньги бедных и пренебрегающего справедливыми упреками добродетельной прессы, – писал он в „Автобиографии“. – А мог нарисовать человека столь же доброго и кроткого, как мой смотритель, трудолюбивого и бедного Божьего служителя, которого какой-нибудь „Ежедневный Юпитер“ безо всяких оснований, из одной лишь личной ненависти клеймит в ядовитых анонимных статьях. Однако моя совесть отвергала оба пути. Я не верил ни в красноносого церковного хищника, ни в газетного убийцу». Сам Троллоп в «Автобиографии» пишет, что такой подход был ошибкой, что писатель будет силен, только если выберет одну сторону и будет держаться ее. Сейчас мы знаем, что это не так, сила Троллопа именно в способности понять и простить всех. Джордж Оруэлл, хоть и попенял ему за то, что он не на стороне реформаторов и «старая несправедливость, на его взгляд, часто не так плоха, как лекарство от нее», все же назвал «Смотрителя», «быть может, самым удачным» из романов Троллопа о церковной жизни и «одним из лучших его произведений».
Крохотного «Смотрителя» Троллоп писал очень медленно и закончил осенью 1853-го. Вышел роман в 1855-м. Издатель предложил Троллопу долю в прибыли – это значило, что автор получит хоть что-то, только если издатель продаст достаточно экземпляров и покроет свои издержки. За первые три книги, изданные на таких условиях, Троллоп не получил ничего, однако судьба «Смотрителя» оказалась иной. Книгу заметили, в печати появились хвалебные отзывы. В конце 1855 г. Троллоп получил от издателя чек на 9 фунтов 8 шиллингов и 8 пенсов, а в конце 1856-го еще один, на 10 фунтов 15 шиллингов и 1 пенс. (Все эти суммы, а также свои гонорары за следующие книги он скрупулезно привел в «Автобиографии».) О том, насколько это были ничтожные деньги, можно судить по тому, что в почтовом ведомстве Троллоп – быстро идущий в гору усердный и талантливый чиновник – получал к тому времени жалованье 800 фунтов в год.
Впрочем, мизерность суммы его не остановила. Поскольку работа не оставляла ему досуга и требовала частых разъездов, он писал в поезде – карандашом, а после отдавал жене переписывать. Так были написаны «Барчестерские башни» – с огромным удовольствием, как говорит Троллоп в «Автобиографии», хотя его и смущала необходимость писать в присутствии четырех или пяти соседей по купе. Издатель сразу предложил за них аванс 100 фунтов – при условии, что Троллоп сократит книгу на треть. Троллоп отказался наотрез: «Я мог бы сжечь рукопись и написать новую книгу, но я не представляю, как можно выкинуть два слова из шести». По счастью, ему удалось настоять на своем, и в 1857 г. «Барчестерские башни» были напечатаны в полном объеме. Сам Троллоп считал их неплохой книгой, но ставил не слишком высоко, утверждая, что своей популярностью они обязаны более удачным продолжениям. Тем не менее многие считают их его лучшей книгой. Согласно таблице в «Автобиографии», «Смотритель» и «Башни» (их часто издавали вместе) принесли ему в общей сложности 727 фунтов 11 шиллингов и 3 пенса.
Следующий его роман, «Три клерка», большого успеха не имел, и Троллоп вернулся в Барчестер. «Доктор Торн» написан отчасти в дороге – Троллопа отправили заключать почтовое соглашение с пашой Египта. Читая эту книгу, едва ли можно догадаться, что автор писал первые главы в каюте, то и дело вскакивая из-за стола, потому что страдал морской болезнью. Никаких обязательств писать книгу с той же регулярностью, что рабочие отчеты, у него не было, поэтому он сам установил себе нормы и ежевечерне записывал в дневнике итог за день – чтобы было стыдно, если норма не выполнена.
Переговоры с высокопоставленным египетским чиновником Нубар-беем (Нубар Нубарян, 1825–1899) шли неспешно, так что у Троллопа оставалось время писать. Он закончил «Доктора Торна» и на следующий день начал следующий роман, «Бертрамов» (именно по их поводу Толстой позже написал: «Троллоп убивает меня своим мастерством»). «Доктор Торн» вышел в 1858-м. Троллоп получил за него 400 фунтов; в «Автобиографии» он пишет, что, судя по суммарным тиражам, это была самая популярная его книга.
Три книги спустя (успев съездить в Вест-Индию, чтобы наладить наиболее удобные и быстрые маршруты для доставки почты) Троллоп вновь вернулся к Барсетширскому циклу. Вышло это так. В конце октября 1859 г. он получил от издателей журнала «Корнхилл», редактором которого был Теккерей, предложение: ему обещали 1000 фунтов за трехтомный роман для публикации частями в журнале, при условии что первый выпуск будет готов к 12 декабря. К письму издателей было приложено очень лестное и теплое письмо Теккерея.
Ни до, ни после Троллоп не публиковал роман в журнале по ходу работы, как делали многие его современники, – и потому, что автору надо иногда вернуться и что-нибудь поправить в начале, и потому, что не хотел умереть, оставив читателей с очередной тайной Эдвина Друда. Даже если роман печатали выпусками, он отдавал его издателю, лишь дописав до конца. Кроме того, его очень удивило, отчего у такого уважаемого журнала за два месяца до Нового года до сих пор нет главного произведения, которое будет публиковаться в следующем году. Впрочем, он быстро сообразил, что причина в прокрастинации – Теккерей намеревался писать главный роман сам, но так за него и не взялся и теперь решил спихнуть работу более молодому коллеге (Теккерей был старше Троллопа всего на четыре года, но куда более знаменит). Расчет Теккерея оправдался – Троллоп не смог отказаться от такого лестного предложения. У него был уже почти написанный роман из ирландской жизни, но издатели попросили лучше «что-нибудь про Церковь». Им нужен был английский роман из английской жизни с клерикальным оттенком.
По пути обратно в Ирландию Троллоп сочинил сюжет «Фрамлейского прихода» и написал первые страницы. В «Автобиографии» он честно признается, что сюжет слеплен на скорую руку (он вообще не придавал большого значения сюжету, считая, что главное в романе – живые персонажи), зато герои удались, а Люси Робартс, по его мнению, получилась самой естественной из его английских девушек – «во всяком случае, из хороших девушек».
Осенью 1862-го в том же журнале начал выходить «Оллингтонский Малый дом» – самая мрачная из «Барсетширских хроник». Когда британский премьер-министр Джон Мейджор, большой поклонник Троллопа, назвал «Оллингтонский Малый дом» книгой, которую взял бы на необитаемый остров, а Лили Дейл – своей любимой героиней, журналистка «Дейли мейл» написала: «За все его время в правительстве я не слышала от него ничего более возмутительного! Я ненавижу Лили Дейл!» Впрочем, многие ее любят; предоставим читателям самим составить о ней мнение.
В 1864–1865 гг. выпусками выходил роман «Можете ли вы ее простить?» – первый роман Паллисеровского цикла. Цикл этот связан с «Барсетширскими хрониками» – Плантагенет Паллисер впервые появляется в «Оллингтонском Малом доме», а дочь архидьякона Грантли в качестве второстепенного персонажа присутствует в Паллисеровских романах, – однако он касается уже не церковной жизни, а парламентской.
«Последняя хроника Барсета» печаталась в 1866–1867 гг. ежемесячными выпусками ценою по 6 пенсов. О популярности Троллопа в то время можно судить по тому, что издатель сразу заплатил ему за рукопись 3000 фунтов. Сам Троллоп считал «Последнюю хронику» лучшей своей книгой, и по крайней мере часть читателей с ним в этом согласна. Она завершается такими словами: «А теперь, если читатель позволит мне ласково взять его под руку, мы вместе простимся с Барсетширом и барчестерскими башнями. Не смею уверять, что здесь мы вместе бродили по сельским аллеям, скакали бок о бок по лугам, стояли рядом в соборном нефе, слушая раскаты органа, сидели за столами добрых людей или сообща противостояли злобной гордыне дурных. Едва ли кто-нибудь, кроме меня, увидел эти края, и людей, и факты так живо, чтобы воспоминания, которые я пытаюсь сейчас вызвать, встали у него перед глазами. Однако для меня Барсетшир материален, я видел его шпили и башни, слышал голоса его жителей, ступал ногами по его мостовым. Всем им я говорю: „Прощайте“. Возможно, мне легче извинят, что я слишком долго бродил здесь из любви к старым дружбам и дорогим лицам, если я торжественно повторю обещание, данное в заглавии, что эта хроника Барсетшира будет последней». Зарок свой Троллоп выполнил (хотя в повести «Две героини Пламплингтона» (1882) и упоминаются мельком дети людей, с которыми мы познакомились в Барсетшире), однако, по собственному его признанию, некоторые герои Хроник (или их призраки) остались с ним до конца дней.
Персонажи Троллопа настолько вне времени, а чувства их настолько понятны любому, что читать «Барсетширские хроники» можно, не вникая в тонкости устройства англиканской церкви. Тем же, кто все-таки захочет в них разобраться, не обойтись без экскурса в историю. Реформация в Англии происходила совсем не так, как в континентальной Европе. Генрих VIII порвал в 1534 г. с Римом не потому, что проникся идеями Лютера (к лютеранству он относился отрицательно), а потому, что римский папа отказался развести его с первой женой. Генрих добился, чтобы парламент объявил его верховным главой церкви, провел секуляризацию церковного имущества, разогнал монастыри, а их земли отдал своим приближенным (оттого-то многие реальные и вымышленные английские поместья – Нортенгер, Даунтон – называются аббатствами; когда-то это и впрямь были аббатства), но долго сохранял в неприкосновенности католическое вероучение и то делал некоторые уступки протестантизму, то забирал их обратно. Более радикальная реформация началась при его сыне Эдуарде VI, но была оборвана после его смерти и восшествия на престол Марии Кровавой, которая попыталась вернуть в Англию католичество.
С воцарением Елизаветы I англиканская церковь возродилась. Были приняты «Тридцать девять статей» – изложение англиканского вероучения, компромиссного между католическим и протестантским. В итоге из всех протестантов англикане ближе всего к католикам как догматически, так и во внешней стороне богослужения. В отличие от католических священников, англиканские священники могут жениться, более того, в англиканстве нет требования безбрачия и для епископов. В отличие от других протестантских церквей, англикане сохранили и епископат, и иерархию духовенства; при этом архиепископов, епископов и настоятелей кафедральных соборов назначает правящий монарх по рекомендации премьер-министра; епископы заседают в верхней палате парламента в качестве «лордов духовных» – отсюда стремление премьера рекомендовать на епископские кафедры людей, близких к его партии. Троллоп, человек верующий и усердный прихожанин англиканской церкви, не позволял себе высказывать сомнения в правильности такой практики, но в одном из его романов католический священник ехидно спрашивает: «Неужто человек достоин выбирать вожатаев для чужих душ лишь потому, что бесконечными трудами преуспел в стремлении возглавить парламентское большинство?» Приходского священника назначает епископ, но по средневековой традиции право выдвигать этого священника (патронат) может принадлежать различным духовным лицам, университетам, корпорациям и некоторым мирянам, например помещику, на земле которого расположен приход. В описываемые времена право это было имущественным, то есть его можно было подарить или продать. Если в английском романе говорится, что кто-то купил сыну приход, это означает, что на самом деле он купил у обедневшего помещика патронат. При этом приход был фригольдом, свободным владением, и после назначения священника ни патрон, ни епископ не могли его сместить – только церковный суд.
Доход англиканского священника складывался из арендной платы с угодий, специально выделенных для поддержания церкви, и церковного налога (десятины). Различались «большие десятины» (с зерна, сена, леса и т. п.) и «малые (с молока, мяса, шерсти, овощей и т. п.); в описываемое время они выплачивались уже не натурой, а деньгами. Система сложилась в Средние века в католической Англии, а после упразднения монастырей при Генрихе VIII значительно усложнилась: часть больших десятин, которые прежде шли монастырю, стали давать на откуп мирянам (например, Шекспир вложил свои накопления в право получать десятину в окрестностях Стратфорда). Приходы делились на ректораты, викариаты и постоянные куратства – еще одно наследие XVI века. Ректораты и викариаты сохраняли свои границы со времен роспуска монастырей, а там, где из-за роста населения требовались новые приходы, создавали постоянные куратства. Каноническая разница между ректором(rector), викарием (vicar) и постоянным куратом (perpetual curate) была невелика, а экономическая – огромна. Ректоры получали большие десятины, викарии – малые, постоянные кураты – фиксированную плату, часто очень невысокую, несмотря на большое количество обязанностей, ложащихся на плечи одного человека, тогда как ректоры и викарии могли из своих доходов нанимать младших священников. Во времена, о которых писал Троллоп, продолжались реформы, призванные хотя бы отчасти уменьшить экономическую несправедливость. В 1836 г. с этой целью была создана церковная комиссия из духовных лиц и мирян. Одним из первых своих постановлений она уравняла доходы епископов; в 1840-м было уменьшено число каноников, а оставшихся обязали жить при соборе. До этого, например, при Даремском соборе было десять каноников, каждый получал 3000 фунтов в год; один из них занимал свой пост 49 лет и все это время провел в Париже. Сэкономленные деньги поступали в комиссию и шли на помощь бедным приходам – особенно расположенным в промышленных городах. Акт 1838 г. ограничил число приходов на одного священника двумя и дал епископу право требовать от священника, чтобы тот жил в своем приходе, а не за границей, как доктор Визи Стэнхоуп. Впрочем, действие закона было отсрочено – если на момент его принятия у священника было три прихода или больше, он сохранял их все до конца жизни; то же относилось и к доходу епископов.
Компромиссная «королевская Реформация» имела много далеко идущих последствий в вопросах куда более важных, чем административное или экономическое устройство англиканской церкви. Как сказала Н. Л. Трауберг в радиобеседах об истории английской литературы: «У Англии очень странная судьба, как в сказке, где девушка должна явиться одетая и неодетая, обутая и необутая, на коне и не на коне и прочее. Буквально такая же история с Реформацией в Англии. Там не было Реформации, и там не было Реформации». У истоков англиканской церкви стояли как люди, готовые признать верховенство монарха, но целиком принимающие католические догматы, так и тяготеющие к лютеранству и даже кальвинизму. Итогом стала большая неоднородность англиканской церкви, а многие вероучительные и обрядовые вопросы остались определены нечетко и, как показало время, допускали широкую трактовку. Предисловие к роману – не место для длинного богословского экскурса; читателям, которых этот вопрос заинтересует, можно посоветовать статью Сергея Булгакова из его «Справочника по ересям, сектам и расколам», который несложно найти в интернете. Здесь довольно будет сказать, что к началу XVIII века в англиканстве окончательно оформились два направления. Высокая церковь стремилась к преемственности по отношению к дореформенной церкви как в догматических вопросах, так и во внешней стороне богослужения (облачения, архитектура, музыка). Низкая стремилась уменьшить роль духовенства и таинств, отказаться от пышных богослужений, категорически отрицала почитание святых, поминовение усопших и многое другое, считая главным проповедь, личное благочестие и чтение Писания. В довершение сложностей Высокая церковь исторически оказалась связана с тори – консервативной партией старой земельной аристократии. Один из ее основоположников, архиепископ Лод, всецело поддерживал Карла I и отстаивал «божественное право королей»; после реставрации Стюартов к власти в церкви на время пришли его последователи, люто ненавидевшие все, в чем видели хоть малейший намек на пуританство. Соответственно, после «Славной революции» и при Ганноверах позиции Высокой церкви пошатнулись и усилилось положение Низкой церкви, исторически связанной с партией вигов, из которой позже возникла либеральная партия. Впрочем, в глазах многих к XIX веку даже Высокая церковь стала слишком протестантской, слишком омирщвленной. В тридцатых годах XIX века внутри Высокой церкви возникло так называемое Оксфордское движение (оно же трактарианство по серии публикаций «Трактаты для нашего времени» или пьюзеизм по имени одного из основоположников). Его зачинатели, в первую очередь оксфордские богословы Джон Ньюмен (1801–1890) и Эдвард Пьюзи (1800–1882), утверждали, что англиканство, православие и католицизм – три ветви единой Церкви, и ратовали за возвращение к древнему христианству и к истокам литургической жизни (в частности, за частое причащение). В современной англиканской церкви то, к чему призывали трактарианцы, стало нормой, но еще незадолго до того, как был написан «Смотритель», белые облачения на священниках и чтение службы речитативом вызывали массовые беспорядки; случалось, что ритуалистов штрафовали или сажали в тюрьму. Джон Ньюмен в своем возвращении к истокам не остановился на трактарианстве и в 1845 г. перешел в католицизм, стал католическим священником, а позже и кардиналом. Ньюмен был страстным проповедником, и многие обратились вслед за ним – среди героев Троллопа есть и те, кто последовал за Ньюменом (католический священник в «Вот так мы теперь живем», которого Троллоп написал со своего знакомого), и те, кто, как Эйрбин, этого искушения избежал. Сам Троллоп был сторонником Высокой церкви и очень не любил евангелическое направление Низкой; он, безусловно, испытал сильное влияние Оксфордского движения, однако к крайностям пьюзеизма тоже относился с опаской, к тому же в политике был либералом и о высокоцерковных тори порой отзывался иронически. Тем не менее все его любимые герои – приверженцы Высокой церкви. Архидьякон Грантли, мистер Эйрбин, а также мистер Робартс и мистер Кроули из «Фрамлейского прихода» и «Последней хроники Барсета» близки к Оксфордскому движению, мистер Хардинг принадлежит к более традиционной школе. «Барсетширские хроники» полны мелкими деталями, связанными с этими спорами, – например, «две молодые дамы под вуалью, держащие в руках молитвенники с тиснеными золотом крестами», которых мистер Хардинг встречает в Вестминстере, – несомненные пьюзеитки. Для представителей Низкой церкви кресты, свечи, а уж тем более ладан – «ритуализм» или даже «папизм». Мистер Слоуп, как мы узнаем из его проповеди в Барчестерском соборе, хотел бы запретить и церковную музыку. К таким, как Слоуп, Троллоп непримирим, других своих героев-священников рисует с любовью, не закрывая глаза на их человеческие недостатки. Ему не раз приходилось отвечать на критику современников, укорявших его в том, что он изображает духовенство без должного пиетета. Отметая эти упреки, он в конце «Последней хроники Барсета» говорит: «Сочиняй я эпическую поэму о служителях церкви, я взял бы за образец апостола Павла, однако, изображая таких священников, каких вижу вокруг, не смею отрываться от земли. Со своей стороны могу лишь сказать, что всегда буду рад сесть за щедрый стол архидьякона Грантли, если тот меня пригласит, или пройтись по главной улице Барчестера под руку с мистером Робартсом из Фрамли, или в одиночестве посетить северный трансепт собора и уронить слезу перед скромным черным камнем с именем Септимия Хардинга».
Представляя «Барсетширские хроники» русскому читателю, необходимо упомянуть одну их особенность, которую невозможно сохранить в переводе: многие персонажи носят говорящие фамилии, причем чем более персонаж комичный и гротескный, тем более нелепая и говорящая у него фамилия; есть в романах и говорящие названия. Так, фамилия многодетного священника Куиверфула –Quiverful = quiver (колчан) + full (полный) – намекает на строки 126-го псалма: «Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой!», приход доктора Грантли зовется Пламстед; plum (букв. слива) означает в английском лакомый кусочек, жирный куш, доходное место; один из приходов доктора Визи Стэнхоупа носит название Эйдердаун – пуховое одеяло и так далее. Прием ко времени Троллопа был устаревшим – писатели второй половины XIX века не выводили в своих романах Милонов и Стародумов. Вот шутливая попытка представить героев, какими они могли бы стать в гипотетическом переводе русского современника Троллопа: