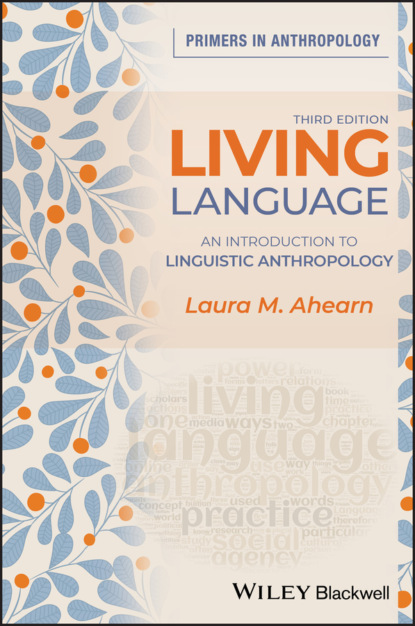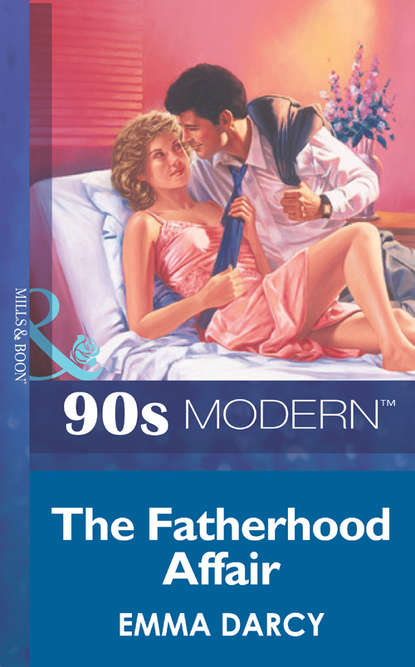Убийство по нотам

- -
- 100%
- +
Он не стал объяснять подробностей. Сжав кулаки, он резко развернулся и побежал вниз по лестнице, оставив Анну одну в полумраке коридора.
Она постояла несколько секунд в полной растерянности, глядя то на удаляющуюся спину Петрова, то на остывающий кофе в своих руках, то в сторону гримерки Насти. Сделав глубокий вдох и поправив выбившийся из пучка непослушный волос, она все же решительно направилась дальше по коридору, на цыпочках подбираясь к заветной двери. Она все еще наивно верила, что её скромная забота сможет хоть каплю утешить звезду, в чьей тени она была так счастлива существовать.
Затаив дыхание, она приблизилась к темной деревянной двери. Сначала она слышала лишь собственное сердцебиение. Потом – приглушенный, влажный звук поцелуя. Затем – низкий, одобрительный мужской смех и ответный, игривый смешок Насти, который в это мгновение показался Анне чужим и неестественным. Потом из-за двери послышался мягкий характерный скрип мебели и сдавленное дыхание, сбивающееся в один ритм, чей-то стон – не от боли, скорее от удовольствия. Ритмичный, настойчивый скрип то ускорялся, то становился медленнее, почти прекращаясь.
Анна отпрянула от двери, будто её ударило током. Щёки мгновенно вспыхнули густым румянцем, по спине пробежала ледяная дрожь. Она вдруг с болезненной, обжигающей ясностью поняла, что стала невольным свидетелем интимного свидания подруги.
Её пальцы разжались, и стаканы с кофе с глухим стуком упали на пол, обдав её ноги темно-коричневыми брызгами. Она даже не заметила этого. Она смотрела на дверь широко раскрытыми глазами, в которых читался не просто шок, а глубокая, детская обида и предательство. Все её наивные представления о дружбе, о поддержке, рассыпались в прах перед этой грубой правдой. Её подруга не нуждалась в её утешении. Ей было не до слез. Совсем не до них.
Развернувшись, Анна бросилась прочь по коридору, давясь рыданиями, которые не смела издать громко. Она бежала, не разбирая дороги, стараясь лишь уйти подальше от этого места, от этого скрипучего звука, врезавшегося ей в память.
Время перерыва подходило к концу. Зал постепенно наполнялся гулом: музыканты возвращались на свои места, листали свои партии, вполголоса переговаривались, настраивали инструменты. Их взгляды то и дело скользили к пустому пульту первой скрипки, словно ожидая, что Романова вот-вот вернется с триумфальной радостью в глазах.
Дверь в зал с силой распахнулась, и на пороге появилась Анна Сомова. Она стояла, слегка пошатываясь, делая судорожный вдох, будто пробежала марафон. Её глаза были красными и влажными, а кончик носа – воспаленно-алым. На неё устремились взгляды всего оркестра. Шепот стих. Звук настраиваемого альта оборвался на высокой ноте.
Анна, словно сквозь строй, медленно прошествовала в центр сцены. Она приблизилась к пультам первых скрипок, к первому из них, самому ближнему к дирижеру, к тому самому, который совсем недавно покинула её подруга.
Словно приговоренная, она медленно опустилась на почётное место первой скрипки, которое сейчас казалось скорее электрическим стулом. Яркий свет софита, всегда ловивший в свой круг блистательную Настю, упал на её ссутуленную спину и растрепанные из под наспех скрученной гульки волосы. Она казалась при этом свете еще меньше, еще незаметнее, еще более испуганной.
Она не поднимала глаз, уставившись в ноты, которые плясали перед ней расплывчатыми пятнами. Её пальцы, привычные и уверенные на грифе, сейчас беспомощно дрожали, не в силах даже поднять скрипку на плечо.
Анна Сомова сидела под ярким, безжалостным светом, и ей хотелось только одного – провалиться сквозь землю. Она получила то, о чем тайно мечтала все эти годы. И теперь это желанное место первой скрипки жгло её огнем стыда и унижения.
Она выдохнула с облегчением, когда дверь зала распахнулась, и на пороге появился маэстро Орлов. Все внимание оркестра переключилось на него. Он вошел с тем же ледяным, незыблемым спокойствием, с каким и уходил. Его лицо было каменной маской, не выдававшей ни единой эмоции.
Вслед за ним, буквально в двух шагах, шел Игорь Яминский. И на его обычно сдержанном лице играла торжествующая улыбка. Он не просто шел – он парил, его плечи были расправлены, а взгляд, скользнувший по оркестру, говорил красноречивее любых слов: «Порядок восстановлен! Я здесь снова второй после бога».
Его душа ликовала. Наконец-то эту выскочку Романову поставили на место. Месяцы унижений и ярости позади. Даже в его коронных произведениях, в его соло, где рояль должен был царить безраздельно, она умудрялась вставить свои дерзкие, виртуозные пассажи, перетягивая на себя внимание зала томными взглядами и вызывающими движениями. Она отбирала у него воздух, свет, победу. А теперь её место заняла тихая, послушная Сомова, которая не смела бы и пикнуть без его одобрения. Пусть на одну репетицию. Пока.
Яминский с наслаждением опустился на банкетку перед роялем, проведя пальцами по клавишам в немом, властном приветствии. Теперь всё было так, как должно быть. Его власть над музыкой и оркестром была восстановлена. Он снова был незаменим.
Маэстро Орлов, поднявшись на подиум, взглянул на оркестр. Все на своих местах. Щербакова, несмотря на абсолютную тишину, умудряется что-то шептать сидящей рядом подруге. Самый юный музыкант оркестра – тромбонист Фёдор Гершвин нервно облизывает губы и растирает руками щеки. Виолончелист Петров взволновано дышит, теребя внутренний карман пиджака. На ближнем пульте первых скрипок взгляд Орлова задержался на испуганной фигуре Сомовой, не выдавая ни единой эмоции. Оркестр – это большая семья. У каждого свой характер. Своя история. Свои победы. Страхи. И всех объединяет стремление к гармонии. И к общему результату.
Орлов ещё раз оглядел свою «семью» перед началом работы. Все были готовы.
– Такт сто сорок второй, – объявил он спокойным, тихим голосом. – Готовы?
Вопрос был обращен ко всем, но Яминский воспринял его как личное приглашение к триумфу. Он кивнул с величием короля, дающего разрешение на начало празднества в свою честь.
Взмах дирижерских рук. И зал наполнился мощными, уверенными аккордами. Яминский играл так, как не играл давно – с блеском, с холодной, отточенной страстью, с абсолютной властью над каждым звуком. Он наслаждался каждым тактом, каждым своим движением, сознавая, что теперь никто не посмеет отнять у него этот момент славы. Он был солистом. Единственным и неповторимым. А где-то там, за кулисами, остались чужие слезы и чужая поверженная гордыня.
Яминский обрушил на зал финальные аккорды – мощные, безупречно выверенные, сверкающие техническим бриллиантом. Казалось, сам рояль вздохнул с удовлетворением под его пальцами.
Маэстро Орлов резким, но точным жестом прервал звучание. И в наступившей тишине на долю секунды повисло лишь эхо последнего аккорда.
А потом оркестр взорвался.
Аплодисменты были не просто вежливыми – они были оглушительными, сметающими. Кто-то даже вскочил со своего места, крича «браво!». Даже суровые ветераны оркестра, редко раздававшие похвалы, улыбались и кивали, стуча смычками по пюпитрам.
Игорь Яминский медленно поднялся. Он не улыбался, но на его лице играла неподдельная, торжествующая гордость. Он склонил голову в почтительном, но величественном поклоне – не столько оркестру, сколько самому себе, своему гению, наконец-то получившему должное признание. От волнения кружилась голова.
Его взгляд скользнул по лицу Орлова, ища подтверждения своей победе. Но маэстро не реагировал на триумф пианиста. Он стоял неподвижно, наблюдая за этой сценой, и его пронзительный, холодный взгляд был устремлен не на Яминского, а сквозь него. В этой овации, в этом ликовании Орлов видел нечто иное: ловко расставленные сети и закулисные интриги, торжество не искусства, но расчета. Он молча кивнул Яминскому и, давая знак продолжать, резко взмахнул руками. Воцарилась напряженная пауза.
– Такт двести девятнадцатый, – его голос прозвучал металлически четко. – Соло первой скрипки. Готовность.
Сомова вздрогнула, будто от электрического разряда, и судорожно вцепилась в инструмент. Её пальцы, только что дрожавшие, теперь двигались с отчаянной, механической точностью.
Она заиграла.
Звук был безупречно чистым и технически выверенным до последней шестнадцатой. Каждая нота звучала в своё время, каждый переход был гладким и отработанным. Это была игра опытного, талантливого музыканта, который идеально знает партию.
Но в исполнении чего-то не хватало. Там, где у Романовой звук лился страстным, дерзким потоком, срывался с вершин и взмывал вновь, заставляя зал замирать, у Сомовой он был ровным, предсказуемым и плоским. Не хватало огня, той безумной искры риска, той живой энергии, что превращает ноты на бумаге в полнокровную, дышащую эмоцию. Скрипка Сомовой не пела, не переживала – она отчетливо, ясно и безжизненно зачитывала текст.
Орлов слушал, не двигаясь, его лицо оставалось каменным.
Игорь Яминский же не скрывал удовлетворения. Уголки его губ дрогнули в едва уловимой, но торжествующей ухмылке. Идеально. Именно так и должно быть.
Анна, чувствуя ледяную волну разочарования, исходящую от дирижерского пульта, старалась изо всех сил. Она пыталась вложить в звук больше чувства, сильнее нажать смычок, сделать вибрато шире. Но от этого её игра становилась лишь натужной, преувеличенной, почти карикатурной. Это была не страсть, а её мастерски сыгранная имитация.
Последняя нота прозвучала чисто, но совершенно бесцветно. Анна Сомова опустила скрипку, не в силах поднять глаз на маэстро.
Орлов опустил руки. В оркестре повисла тягостная пауза, густая и неловкая.
– Сомова, – наконец, произнёс Орлов. Его голос прозвучал не громко, но с той неоспоримой ясностью, которая заставляла вздрагивать. Он сделал небольшую, но значимую паузу, – спасибо. Ваша техника безупречна. А дисциплина – пример для всех. Это именно то, что сейчас, перед ответственным концертом, требуется оркестру.
Формулировка «требуется оркестру» – была гениальным ходом. Она возвышала коллектив над личными амбициями. Орлов снова посмотрел на испуганную скрипачку. Его взгляд смягчился на долю секунды.
– Анна, благодарю Вас. Ваша точность сегодня нам еще пригодится. Пока отдохните.
Он не стал говорить «Извините» или «Вы не справились». Он просто вернул её в зону комфорта, в тень второго места, дав ей сохранить достоинство. И при этом оставил ей важность её роли в оркестре – роли надежного, точного музыканта.
– Гершвин, – имя молодого музыканта прозвучало четко, как выстрел. Фёдор Гершвин вздрогнул и вытянулся. – Пройдите к Романовой. Передайте, что мы ждём её возвращения. Без лишних слов.
Юноша кивнул, слишком резко, и поспешил исполнить ответственное поручение, бегом направляясь к выходу.
– Стойте! – внезапно крикнул маэстро вслед убегающему юноше. – Я сам.
Не хватало ещё, чтобы эта капризная девчонка передавала ему через музыкантов оркестра какие-то гнусности и грубости. Орлов, не глядя ни на кого, сошел с подиума и твердым шагом направился к выходу.
Гримерка звезды была в легком беспорядке. Бархатная накидка небрежно висела на кресле, на столе стоял недопитый стакан воды. Сама девушка стояла перед зеркалом, любуясь отражением в полный рост. Руками она поправляла ослепительной работы колье-сотуар с бриллиантами, которое она только что надела на свою изящную шею. Она ловила его отблески в зеркале, и на её лице играла сложная смесь торжества и превосходства. Настя, конечно же, знала стоимость этой безделушки. Незамкнутое колье в форме вопросительного знака из павлиньего пера – мечта жён, дочерей и любовниц богатых аристократов старого света уже полтора столетия. И вот сейчас оно на её шее.
Увидев в отражении Орлова, она не обернулась. Её глаза встретились с его взглядом в зеркале.
– Подарок от Левина? – спросил он, и в его голосе прозвучала усталая грусть и легкое разочарование.
– Да! А что? Разве я не заслужила? – девушка с вызовом обернулась к маэстро. Его осанка была уже не так горда и тверда. Перед ней стоял уставший от лжи, интриг пожилой человек с полными печали глазами.
– Заслужила, – тихо согласился Орлов. Он смотрел не на драгоценность, а на нее. На свою единственную племянницу, дочь сестры, которую не смог уберечь от страшной болезни. – Ты заслуживаешь всего самого лучшего. Но не такой ценой.
Он подошел к дивану и сел, смотря на её отражение в зеркале. Сейчас он видел перед собой не первую скрипку, не капризную приму, а девочку со смеющимися глазами, в лёгком ситцевом платье, бегущую по пшеничному полю навстречу ветру. Он помнил, как учил её брать первые аккорды, как гордился её талантом. Как в парке аттракционов она лопала сахарную вату, размером больше неё в два раза. Как они хохотали, исполняя для Настиной мамы «Собачий вальс» в четыре руки. Тогда всё было легко и просто.
А теперь это перо висело на её шее, готовое затянуться в любой момент.
– Такие люди, как Левин, не прощают долгов, – продолжил он. Голос его был тих, но убедителен. Орлов знал, о чем говорил. – И не прощают ошибок.
– Единственная ошибка, которую я совершила, – с упреком, делая акцент на каждом слове, произнесла девушка, – был твой любимый ученик Петров. Не понимаю, зачем только ты посоветовал мне присмотреться к нему, дядя?
– Ты не видишь дальше своего носа! Он будет следующим после меня, поверь мне! Надо только немного подождать.
– Смешно! Если бы он не был хоть сколько-нибудь полезен мне, я бы давно избавилась от него.
– Я отказываюсь слушать это! – раздражался Орлов.
– Позвольте, дядя, это не я пришла к Вам в гримерку! – уверенно парировала звезда.
– Хватит, Настя! Хватит этих спектаклей! Я не смогу защищать тебя вечно!
Она, наконец, обернулась, её глаза блестели.
– Каких спектаклей? Я борюсь! За свое место под солнцем! В этом оркестре, в этой жизни! Борюсь, как умею.
– Ты разрушаешь все, к чему прикасаешься. Включая себя. И включая меня.
– Тебя? – она фыркнула. – Тебя невозможно разрушить. Ты же несокрушимый маэстро Орлов. Наш гениальный диктатор.
– Сейчас я здесь как твой дядя, а не как дирижёр оркестра, – произнес он уже спокойно. – Единственный близкий человек, кто остался у тебя. И я дал слово твоей матери перед её смертью, что позабочусь о тебе.
– И ты думаешь, что забота – это ломать меня при всех? – её голос дрогнул.
– Я думаю, что забота – это не позволять тебе превратиться в монстра, – жестко парировал он. – В капризную истеричную звезду, ломающую музыку под себя и свои желания. Следующая подобная выходка, и я клянусь, я публично отстраняю тебя на сезон. И тебе не поможет даже Левин. Будешь проводить время не на сцене, а в квартире со своими новыми бесценными друзьями – побрякушками!
– Ты просто завидуешь мне! – выпалила она, но в её голосе слышалась неуверенность. – Ты всю жизнь прожил в бедности и хочешь, чтобы я повторила твой путь? Но так не будет! Я хочу жить здесь и сейчас! Я хочу быть звездой!
– Звезды горят ярко, но быстро, Настя! – отозвался Орлов. – И падают стремительно и больно. Я не хочу, чтобы ты разбилась, девочка моя.
Он назвал её так, как называл в детстве. Настя отвернулась к зеркалу, делая вид, что поправляет прическу, но он увидел, как дрогнул её подбородок.
– Жду тебя в зале через пять минут, – Орлов расправил плечи и, не дожидаясь ответа, развернулся и вышел из гримерной, оставив смущенную девушку наедине со своими мыслями и терзаниями.
Ровно через пять минут дверь в репетиционный зал приоткрылась, и на пороге появилась Анастасия Романова. Она гордо прошла к своему пульту, не глядя ни на кого, и села на своё место. Она была бледна, но её осанка была прямой. Всем своим видом она показывала, кто здесь не главный, нет, кто здесь необходимый, как воздух и незаменимый, как вода. Без кого музыка останется только нотами на бумаге или звуками, без жизни летящими в воздух. Без кого Гала-концерт, назначенный на следующие выходные, будет обычным рядовым выступлением самого скучного оркестра города.
Орлов, стоявший за пультом, встретил её появление полным безмолвием. Он просто подождал, пока она приготовится, и поднял руки.
– С такта сто шестнадцатого, – сказал он ровным голосом. – Начали.
И оркестр заиграл.
2. «Ярмарка тщеславия»
Большой концертный зал сиял, будто вывернутый наизнанку ларец с драгоценностями. Хрустальные люстры-бра освещали камерное пространство тысячами радужных бликов и заливали золотую лепнину ослепительным потоком света.
Взгляд, скользя по стенам, невольно устремлялся вверх. Там, под высокими сводами расположилась самая великая шахматная доска в мире музыки. Клетки-кессоны выхватывали каждая свою порцию света и кричали о том, что скоро здесь будет разыгрываться новая партия. Каждый займет своё место и в нужное время сделает тот ход, который должен сделать. Дирижёр – взмахнёт палочкой, музыкант – сыграет ноты, слушатель – отблагодарит аплодисментами, а время – волшебным образом остановится.
Будут меняться лица и эпохи, но искусство продолжит эту свою вечную игру. А за ней будет наблюдать её неизменный хранитель – великолепный немецкий оргáн. Невольный свидетель всех разыгрываемых здесь драм и партий. Сегодня он особенно хорош, подсвечиваемый лучами ярких прожекторов. Молчаливый джентльмен, видевший и слёзы, и триумфы, и поцелуи украдкой, и взгляды, полные ненависти. Прямо сейчас он вновь готовился стать свидетелем яркого и незабываемого события.
Ещё совсем немного и идеальное молчание зала будет нарушено шагами и разговорами первых зрителей.
А пока здесь царила торжественная, немая тишина.
Когда большие напольные часы в холле пробили семь ударов, парадная дверь распахнулась, и в фойе хлынул бурлящий поток гостей.
Пространство мгновенно заполнилось гулом голосов, смехом и шелестом дорогих тканей. Воздух заискрился не только от света люстр, но и от бесчисленных вспышек фотокамер. Повсюду, словно тени, сновали фотографы и видеографы – представители официальной прессы, модных журналов и светских хроник. Они ловили удачные ракурсы, выхватывая из толпы самые яркие наряды, самые известные лица, самые белоснежные улыбки. Щелчки затворов сливались в отдельную, стрекочущую симфонию, а ослепительные вспышки на мгновение заставляли бриллианты сверкать еще ярче.
Фуршетные столы, со вкусом убранные и уместно размещённые в просторном фойе, ломились под тяжестью изысканных закусок: икра черная и красная лежала горками на серебряных льдинках рядом с канапе из разного вида рыб, маслин и кусочков тропических фруктов. Нежные брускетты исчезали в мгновение ока, а батареи хрустальных бокалов, наполненные игристым вином, безостановочно опустошались и вновь появлялись в руках ловких официантов. Те, словно тени в ливреях, шмыгали между гостями, предугадывая желания еще до их появления.
Это был не просто концерт. Это был Гала-вечер «Сияния Северной Пальмиры». Вечер торжества музыки, организованный компанией известного в городе ценителя искусства и музыки, мецената Бориса Левина.
Сюда были приглашены все значимые и заметные люди в городе. Политическая и бизнес-элита страны.
Женщины, словно сошедшие со страниц глянцевых журналов, выставили напоказ не только свои лучшие наряды от кутюр, но и бриллианты, тяжелые колье, браслеты и серьги, стоившие, пожалуй, больше годового бюджета всего оркестра. Мужчины в безупречных костюмах и смокингах держались с подчеркнутой небрежностью, но их взгляды были острее бритв. Они красовались не собой, а своими спутницами – элегантными, холодными и умело кокетливыми. Красивая и дорогая женщина рядом с мужчиной была его самым красноречивым аксессуаром, безмолвным свидетельством его состоятельности и вкуса.
Это была ярмарка, где статус измерялся не титулами – здесь все были титулованы, а стоимостью часов на запястье или колье на шее прекрасной дамы.
– Владимир Дмитриевич, вот удача! – воскликнул молодой человек в идеально сидящем костюме, буквально хватая у фуршетного столика важного господина с седыми висками. – В кабинете Вас не поймать, хоть здесь повезло! У меня как раз готов тот проект по редевелопменту портовой зоны, помните я Вам говорил. Три минуты Вашего времени – и я уверен, Вы оцените перспективы.
– Митенька, дорогой, я здесь, чтобы отдыхать, а не работать! – недовольно фыркнул господин, отворачиваясь.
– Этот проект принесёт миллионы, клянусь! – не отступал юноша. – Просто дайте мне немного времени.
– Отложим это на завтра, – закончил разговор старший товарищ, всем своим видом давая понять, что истории на миллионы уже давно его не интересуют. Не тот масштаб.
Две дамы, стоя возле огромной цветочной композиции, с увлечением обсуждали последние светские новости.
– Линочка, ты помолодела на двадцать лет! Неужели это работа профессора Альтшулера?
– Ну конечно, милая! После него все эти московские и питерские специалисты – просто подмастерья. Я тебе дам его номер. Правда, очередь на год вперед, но я могу позвонить его ассистенту. За отдельный бонус, конечно.
– Такая искусная работа стоит любых бонусов.
– Ты ещё не видела новую грудь у Ермоловой. Шедевр! Она теперь может позволить себе самые смелые декольте.
У стойки с шампанским тщедушный мужчина с важным видом поправлял ремешок у часов.
– А старшего мы определили в Итон, слава богу. Теперь вот младшего готовим. Репетитор из Кембриджа бьется с ним как рыба об лёд, а счета выставляет, как за самого принца Уэльского!
– Понимаю, – кивал его собеседник, с пониманием глядя на часы товарища. – Но что поделать? Капитал нужно трансформировать в статус. Деньги могут обесцениться, а связи в приличном обществе – никогда.
Эти разговоры были точным отражением мира собравшейся здесь публики. Дети были статьей инвестиций, лица – демонстрацией финансовых возможностей, а случайная встреча на приеме – возможностью закрыть многомиллионную сделку. Они не просто наслаждались роскошью. Они торговали ею, мерились и использовали как оружие. Каждая минута времени должна была приносить прибыль. А иначе в этой минуте не было смысла. Эти люди, закованные в броню из брендов и драгоценных камней, давно перестали быть просто людьми. Они стали ходячими счетами, живыми логотипами, а их души, если они и были когда-то, давно атрофировались за ненадобностью, уступив место единственному значимому органу – кошельку. Они посвятили свои жизни погоне за сияющей мишурой, даже не заметив, как сами превратились в такую же пустую и блестящую обертку от давно съеденной конфеты.
Когда все гости были в сборе, шум неожиданно стих, сменившись взволнованным шепотком. Толпа в фойе расступилась, как море перед трансатлантическим кораблем. Появился хозяин бала.
Борис Левин вошел не спеша, с невозмутимым видом человека, привыкшего, что мир уступает ему дорогу по праву рождения. Ему было слегка за пятьдесят. Его густые, чуть с проседью волосы были уложены с небрежной точностью, которая стоила несколько часов работы дорогого стилиста. Лицо с крупными, но четкими чертами и упрямым подбородком могло бы казаться грубым, если бы не глаза – смеющиеся карие, с длинными ресницами. Он смотрел этим обманчивым детским взглядом на людей, мгновенно сканируя их, будто считывая штрих-код на товаре в магазине.
На лице его играла легкая, чуть снисходительная улыбка хозяина, довольного собранным обществом и предвкушающего главный сюрприз вечера, который был задуман им как грандиозная неформальная презентация. Он хотел не просто похвастаться новой звездой – он намеревался продемонстрировать высшему свету города свой самый изысканный и ценный трофей. Юную, прекрасную, невероятно талантливую Настю Романову. Показать её не как музыканта, а как свое творение, свою личную находку, взлелеянную его деньгами и влиянием. Её успех должен был стать отражением его собственного могущества, доказательством того, что его вкус и инстинкты идеальны.
То, что вкус его был безошибочным, подтверждала и та, что зашла с ним в фойе под руку. Ирина Левина. Она шла рядом с мужем, плоть от плоти этого мира денег и роскоши, плоть от плоти своего мужчины. Она шла уверенной, легкой походкой женщины, которая знает цену каждому взгляду, брошенному в её сторону. Одним приветственным взмахом руки, одной непринужденной фразой, брошенной в сторону важного банкира, она показывала, что она здесь – на своей территории. Её улыбка была досконально выверенной – ровно настолько, чтобы обласкать нужного человека, и не более того. Она не сканировала зал, как её муж, она скользила по нему взглядом, мгновенно находя знакомые лица и посылая им едва заметные знаки внимания: подмигивание одной, воздушный поцелуй другой, кивок третьей. Все её любили. А точнее, все хотели быть любимыми ею, потому что её расположение было пропуском в самый сокровенный круг.
Она, в отличии от большинства присутствующих здесь женщин, была не молчаливым аксессуаром, а полноправной соучастницей триумфа. Её платье из тяжелого серебристого шелка было не кричащим, но безупречным. И каждая в зале с первого взгляда угадывала имя мастера-кутюрье, его создавшего, и стоимость в шестизначную цифру, за него отданную. В её ушах в дополнение идеального образа сверкали изумительной огранки бриллианты, а на шее красовалось изящное колье.