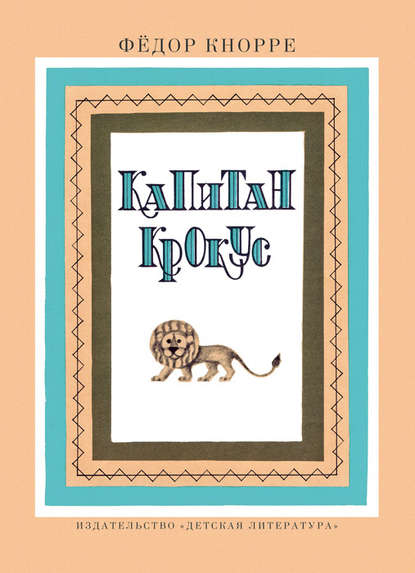Убийство по нотам

- -
- 100%
- +
Глядя на чету Левиных, триумфально направляющихся в сторону царской ложи, все понимали: эта пара не просто правит вечером. Они правят этим миром.
– Говорят, сегодня будет играть его протеже, – прошептала в след удаляющимся супругам ярко одетая дама.
– Посмотрим, во сколько ему обошлось это открытие! – с нескрываемой завистью ответила её подружка.
Ирина Левина, казалось не слышала этих перешёптываний, но ослепительная улыбка её стала чуть более сдержанной.
За кулисами кипела совсем другая жизнь.
Здесь воздух был густым и тяжёлым, пропахшим канифолью, лаком для волос и едва уловимым, но отчетливым запахом адреналина – знаменитым «запахом сцены».
Закулисье жило по своим законам, напоминая пчелиный улей. Молодые артисты, у которых подобный концерт был впервые, были похожи на перепуганных птенцов. Для них этот Гала-вечер был не триумфом, а испытанием на прочность.
Опытные музыканты, ветераны оркестра, напротив вели себя с почти будничным спокойствием. Пожилой виолончелист, седовласый и невозмутимый Михаил Вадимович, не спеша натирал смычок канифолью, его движения были отточены десятилетиями. Он с мягкой улыбкой наблюдал за метаниями молодежи, словно вспоминая себя. Рядом флейтистка Щербакова с невозмутимым видом поправляла перед зеркалом строгую черную брошь на своем платье. Для них сцена была рабочим кабинетом, а не полем битвы.
В артистической, расположенной рядом со сценой, пианист Яминский отрабатывал пассаж на установленном здесь фортепиано. Ему было всего двадцать семь, но в этой молодости чувствовалась уже не юношеская неуверенность, а сформировавшаяся вера в свои силы и талант. Его лицо, с правильными, почти античными чертами и высокими скулами, было сосредоточено. Темные волосы, уложенные гелем лаконичными прядями, падали на лоб. В уголках его губ, тонких и выразительных, играла не просто надменная, а скорее торжествующая усмешка – он знал, что выглядит безупречно и был готов покорить этот вечер.
Одет он был с безупречной, почти вызывающей элегантностью. Его фрак, сшитый на заказ, сидел безукоризненно, подчеркивая широкие плечи и стройный стан. Ослепительно белая манишка контрастировала с загаром его ухоженных рук с длинными, цепкими пальцами, которые порхали по клавишам с хищной грацией. Лаковые туфли сверкали. От него исходило сияние – не столько от дорогой одежды и укладки, сколько от предвкушения грядущего триумфа, который, как он чувствовал, был неминуем.
Когда Алексей Петров молча зашёл в комнату, Яминский прервавшись, развернулся к нему.
– Твоё сердце стучит громче оркестровых барабанов! – ухмыльнулся он. – Что-то случилось?
– Ничего такого, чем бы я хотел делиться с кем бы то ни было, – мрачно буркнул Петров, пытаясь пройти дальше.
Яминский ловко преградил ему путь, ловко вытянув ноги.
– Ну, не скромничай. Говорят, наше юное дарование Васильева совсем от тебя без ума. Как же ты будешь разрываться теперь между пылающим юным талантом и нашей ледяной королевой? – он ядовито усмехнулся.
Петров побледнел. Слухи о симпатии тихой и талантливой Елены Васильевой, его одногруппницы по консерватории и давней подруги, доходили до него, но он всячески игнорировал их, не желая усложнять и без того мучительные отношения с Настей.
Вчера после репетиции они даже выпили чай в местном буфете, мило болтая обо всем и ни о чем. Она предлагала ему попробовать кусочек торта, а он скромно отказывался. Это было очень просто и по-человечески. Так далеко от ядовитых игр Насти.
– Тебе лучше не трогать Васильеву!
– О, прости, я и не знал, что она уже под твоей защитой, – ехидно удивился пианист. – Ну что ж, выбор за тобой. Бриллиант или скромный фианит? Только смотри, виолончелист, не ошибись.
– А ты, оказывается, обладаешь великим талантом испортить другим настроение перед началом концерта, Яминский!
Петров, не сказав больше ни слова, резко развернулся и вышел в коридор, оставив пианиста наслаждаться произведённым эффектом. Он наблюдал, как Петров скрывается за дверью, и язвительная улыбка медленно сошла с его лица, сменившись выражением досады и тревоги. Обычно Яминский не опускался до таких откровенных пакостей и «деморализации противника», предпочитая доказывать свое превосходство виртуозной игрой, а не уколами в адрес личной жизни коллег. Но сегодняшний вечер был особенным. Слишком многое стояло на кону.
Все его попытки повлиять на ситуацию цивилизованно провалились. Пару дней назад он зашел в кабинет к Орлову, пытаясь апеллировать к разуму.
– Виктор Петрович, программа, с которой мы готовимся выступить на «Сияниях» – не готова! – говорил он подчёркнуто уважительным тоном. – Романова в последнее время, мягко говоря, нестабильна. Очень истерична. Если она позволит себе очередной срыв или импровизацию на сцене – весь Гала-вечер пойдет под откос. Давайте усилим фортепианные партии. Во мне-то Вы всегда можете быть уверены. Я готов играть любую программу. И я гарантирую Вам такой триумф, какого ещё не видел этот зал.
– Программа давно утверждена, – отрезал коротко мрачный и непроницаемый Орлов. – Я обязательно учту Ваше мнение и пожелания на будущее, Игорь. Но на сегодня Ваша задача – играть, а не составлять репертуар и утверждать состав оркестрантов.
Яминский понял: маэстро слеп и глух, и находится под влиянием этой взбалмошной девицы. Разумные доводы на него не действуют.
И вот теперь, за кулисами, Яминский чувствовал, как почва уходит из-под ног. Его карьера, его шанс блеснуть перед всей элитой города – все это могло быть похоронено из-за капризов Романовой. Отчаяние заставляло его хвататься за любые средства, даже за самые грязные. Если нельзя победить в честной борьбе, придется сеять сомнения и раздор, пытаясь выиграть время или хоть как-то ослабить противника. Он с отвращением осознавал это, но иного выхода уже не видел. Любые средства были хороши, чтобы не дать этому вечеру превратиться в его собственную катастрофу. Остаться тенью первой скрипки, аккомпаниатором звезды – не ради этого он с трёх лет просиживал по десять часов в день за роялем, пока другие мальчишки гоняли мяч во дворе.
Воспоминание нахлынуло внезапно, горькое и яркое. Душная питерская квартира, запах пыли и старого паркета. Мальчик с совсем недетской усталостью в спине, раз за разом отыгрывающий один и тот же сложный пассаж. За его спиной – строгий взгляд учительницы и усталое, но полное надежды лицо матери, которая отказывала себе во всем, лишь бы у сына был шанс. Они с мамой были одни друг у друга. Мама родила единственного сына и вскоре осталась одна, и теперь она всё готова была отдать за его успехи. У него не было ни футбола, ни дворовых драк, ни первой любви – вместо этого бесконечные гаммы, сольфеджио, сложные пассажи и мучительный страх не оправдать ожиданий мамы и верящих в него учителей. Вся его жизнь была вложена в эти пальцы, в умение извлекать из черно-белых клавиш не просто звуки, а эмоции, которые должны были потрясать души.
Он не хотел быть просто музыкантом. Он хотел быть единственным на сцене. Хотел, чтобы зал замирал, когда он играет. Этот Гала-концерт был для него шансом. Возможностью доказать Орлову, Левину, всему этому блестящему миру, что настоящее искусство – не в истеричных пассажах скрипки, а в глубине и мощи фортепианного звука.
Яминский глубоко вздохнул, выпрямился и снова надел маску циничного и уверенного в себе виртуоза. Война еще не была проиграна…
Маэстро Орлов предпочитал не наблюдать за разыгрывающимися за кулисами и в фойе спектаклями. За двадцать пять лет работы в оркестре, он привык к разного рода интригам и представлениям. Заперевшись в дирижёрской, он, закрыв глаза, прислушивался к долетающим до него звукам. Он слышал, как волнуется перед своим первым большим концертом молодой тромбонист, разыгрываясь и беря неверные ноты. Как дергается, спеша по своим делам, и будто подгоняя время, заслуженный виолончелист. Как щебечут, сливаясь в единый гвалт, вторые скрипки. Совсем скоро ему предстоит собрать их всех в один механизм и, несмотря ни на что, запустить эту махину. Почти сотня человек, каждый со своими переживаниями и мыслями. Они должны забыть о своём и на время выступления, слившись в один организм, запеть чистым и безупречным голосом.
Даже если зритель сегодня только делает вид, что слышит и понимает. Внутри него всё сжалось в тугой, болезненный узел. Он ненавидел служение музыки толстым кошелькам, ненавидел необходимость ловить взгляды меценатов, эту унизительную пляску перед золотым тельцом. Музыка, его единственное убежище, его святыня, в такие вечера превращалась в фон для демонстрации чужого тщеславия.
Он открыл глаза и посмотрел на свое отражение в зеркале. Идеальный фрак сидел на его широких плечах безупречно, подчеркивая стройность не по годам подтянутой фигуры. Его густые, с проседью волосы были зачесаны назад с педантичной аккуратностью, открывая высокий лоб и властные черты лица, на котором не осталось ни тени сомнения или усталости – только стальная воля и полная концентрация.
Прозвенел третий звонок. Начало всех начал.
Орлов взял свою дирижёрскую палочку. Пальцы почувствовали тепло знакомого до каждой вмятинки дерева. И в этот миг произошло превращение. Исчез уставший мужчина с грузом прошлого. Исчез любящий и беспомощный дядя. Исчез решающий вопросы администратор и командир. Из зеркала на него смотрел Маэстро. И ему было не важно, поймёт его публика или отвергнет. Сейчас его задачей было выйти за пределы этих понятий и открыться настоящему. Тому, что должен донести до себя и прочувствовать сам.
Твердым, решительным шагом он вышел из дирижёрской.
За кулисами стояла тишина. Ни одного человека. Все были задействованы в зале. Каждый на своём месте. Все ждали его.
Когда фигура дирижёра, выхваченная лучем софитов, поднялась на сцену, шквал аплодисментов обрушился на него. Его взгляд, холодный и тяжелый, скользнул по рядам зрителей. Публика, переполненная собственной значимостью, ждала зрелища, достойного их статуса. Они жаждали грандиозного представления.
Маэстро повернулся к оркестру, и аплодисменты стихли, сменившись многообещающей тишиной. Все в зале замерли, затаив дыхание. Он поднял палочку. В его жесте не было ни театральности, ни суеты – только чистая, сконцентрированная энергия, готовая обрушиться на публику. Орлов обвел взглядом оркестр, будто беря его в фокус. Каждый оркестрант почувствовал этот взгляд на себе, как приказ, не терпящий возражений. Никаких сомнений. Никаких слабинок. Только работа. Только музыка. И вот, едва заметное движение кончика палочки вниз – и пространство взорвалось звуком.
Величественная музыка лилась, заполняя зал мощными аккордами и нежными мелодиями. Дирижёр общался с публикой, погружаясь в музыку. Он не стремился произвести впечатление, просто проживал каждую ноту, каждую паузу сам. И делился своими мыслями и чувствами с теми, кто был готов их видеть и слышать.
Оркестр отыграл свою часть выступления, получив порцию аплодисментов. Пылких, восторженных. Но сдержанных. Аккуратно отмерянных на весах требовательной публики.
И вот настал час главной актрисы этого представления.
На сцену вышла Настя Романова. Она вышла не как музыкант, она вышла как божество. Её черное платье струилось по телу, как расплавленная ночь. Гладкая, собранная в низкий пучок прическа открывала идеальную линию шеи, на которой сверкало главное сокровище – бриллиантовое колье-перо, подарок Левина.
И в ту самую минуту, когда фигура её, стройная и отточенная, застыла в сфокусированном луче прожектора, по рядам кресел пробежала едва заметная волна. Не громкий говор, но тот особый, сдержанный гул, что рождается не из звуков, а из самого напряжения сотен взглядов, мгновенно прикованных к одной точке. Чуть склонив головы к плечам своих мужей или любовников, дамы что-то нашептывали своим половинам. И в этих кратких, отрывистых фразах выражалось не восхищение искусством, а быстрый, привычный учет всех подробностей её туалета – оценка фасона платья и веса бриллиантов.
Когда гомон в зале утих, Настя Романова неспешно подняла скрипку. И заиграла. И это не была музыка. Это было ослепительное торжество. Первый звук был чистым, ясным и пронзительным, как утренний свет. Её игра была не вызовом, а даром. Виртуозные пассажи сменялись проникновенными, певучими мелодиями, заполняя пространство зала не звуком, а эмоциями. Она не соревновалась с оркестром, она парила над ним, а музыканты, ведомые железной волей Орлова, были её достойной опорой, то нежно подхватывая, то мощно поддерживая её партию.
Каждая нота, извлекаемая смычком, была уколом самолюбию Яминского.
Каждый виртуозный пассаж – выпадом в сторону холодной Ирины Левиной.
Настя бросала взгляды на Бориса, играя словно только для него. Он же сидел в своём кресле неподвижно, откинувшись назад. Его взгляд, тяжелый и пристальный, был целиком обращен к ней. Он не просто слушал – он вбирал в себя сам образ этой молодой, блистающей женщины. В его чуть заметной улыбке и влажном блеске глаз читалось не просто восхищение, а чувство собственника, созерцающего самое удачное и прекрасное из своих приобретений. Она была его живым, дышащим активом, и её триумф был триумфом его вкуса, его могущества.
Когда партия скрипки была закончена и музыка замолчала, зал взорвался в овациях. Публика восторженно кричала и не скупилась на жаркие аплодисменты.
– Браво!!! Браво! – разносилось со всех сторон.
Но волна этого восторга разбивалась о ледяной берег, который сейчас представляла из себя Ирина Левина. Сидя рядом с мужем, она аплодировала ровно столько, сколько требовали приличия, – два-три скупых, механических хлопка. Её ладони едва соприкасались, а на лице застыла маска светской учтивости, сквозь которую, однако, пробивалась стальная напряженность.
Каждый восхищенный вздох, каждый восторженный возглас в адрес Насти были для нее публичной пощечиной. Она сидела неподвижно, но каждый мускул её тела был натянутой струной. Её собственное, безупречное элегантное платье и скромное колье казались ей унылыми и слишком простыми на фоне ослепительного наряда и бриллиантового пера на шее этой выскочки. Она чувствовала на себе взгляды зала – не сочувствующие, а оценивающие, сравнивающие, и это сравнение было не в её пользу. Молодость – этот единственный безапелляционный женский аргумент был ей уже недоступен.
Пока Борис пожирал глазами свою звезду, Ирина пожирала взглядом – холодным, острым и полным невысказанной ярости – молодую соперницу. И в этом молчаливом, полном ненависти взгляде читалась безмолвная клятва: этот триумф будет стоить дорого им обоим. Её аплодисменты стихли первыми. И в непрекращающемся потоке оваций её неподвижность и молчание были красноречивее любых криков.
– Антракт! – обьявил конферансье, и публика потянулась к выходу.
Фойе вновь превратилось в шумный салон, но на этот раз возбуждение было подлинным, рожденным только что пережитым потрясением. Воздух гудел от восторженных голосов, звенел бокалами, в которых даже шампанское искрилось как-то ярче.
К стоящему в центре Левину пробивались люди. Его поздравляли с грандиозным успехом, хлопали по плечу, жали руку.
– Борис Борисович, это великолепно! Настоящее открытие сезона!
– Ваш вкус, как всегда, безупречен. Эта девочка – настоящий бриллиант!
– Поздравляю, Вы подарили городу новую звезду!
Левин принимал поздравления с видом человека, не сомневавшегося в успехе ни на секунду. С наслаждением он ловил каждое слово. Его улыбка была широкой и довольной. Он кивал, бросал короткие реплики: «Спасибо, она действительно уникальна», «Оркестр был великолепен». В его глазах читалось глубочайшее удовлетворение. Это был его успех, его проект, его триумф, и он купался в его лучах.
– Спасибо, друзья! – голос ликующего мецената прогремел, перекрывая гул толпы. – Это лишь начало! А сейчас позвольте мне покинуть Вас. Увидимся во втором отделении. Иринушка, я отлучусь ненадолго, – обратился он шепотом к супруге. – Мне надо навестить артистов оркестра и переговорить с Орловым.
– Конечно, дорогой, – натягивая искусственную улыбку, ответила Ирина, с трудом сохраняя ледяное спокойствие. – Не задерживайся.
Едва Левин скрылся в толпе, как к оставшейся в одиночестве королеве бала тут же подплыла пара светских львиц.
– Ирочка, какая же ты счастливица! – защебетала первая, Эльвира, с восторгом глядя ей в глаза. – Такой муж! Такой тонкий ценитель музыкального искусства!
– Да, – сухо согласилась Ирина, глядя поверх её головы туда, где исчез супруг. – Борис обладает редким даром оживлять бездушные предметы. И вкладывать в них душу.
Вторая дама с едва заметной усмешкой покачала головой:
– Осторожнее, Ирина Сергеевна. Юные богини в нынешние времена часто оказываются богинями охоты – этакими Дианами, разрушающими всё, что стоит у них на пути. А тут такая звезда!
– Не беспокойся, Марина, – Ирина медленно отпила шампанского, её взгляд стал острым и холодным. – Я давно усвоила простое правило: чем ярче горит звезда, тем короче её век. И тем большая тьма ждёт её, когда она, наконец, сгорит. И поверь мне, – её голос снизился до ледяного шепота, – что-то подсказывает мне, что падение этой юной звезды будет стремительным и очень болезненным.
С этими словами, кивнув подругам, она отвернулась, будто случайно задев локтем пустой бокал. Хрусталь со звоном разбился у её ног, но она даже не вздрогнула, делая вид, что ничего не заметила, и направилась прочь, оставив застывших в недоумении собеседниц и мигом подбежавших официантов.
– Не хотела бы я оказаться на месте этой глупой девочки! – допив свой бокал шампанского произнесла Марина, стараясь поскорее удалиться с места, неожиданно привлекшего к себе всеобщее внимание.
За кулисами, в душной артистической комнате, пахнущей гримом и смесью духов, разыгрывалась своя драма. Воздух здесь был раскален до предела.
Настя Романова, сжимая в руке скрипку и смычок как оружие, стояла посреди комнаты. Её лицо, еще недавно сиявшее холодной красотой, было искажено гримасой бешенства.
– Я не выйду! Вы слышите? Не выйду на сцену! – её голос, срывающийся на визг, резал уши. – Если эта бездарность Васильева появится в зале, я не сыграю больше ни ноты! Она фальшивила! Фальшивила чуть ли не в каждом такте! Её уши, похоже, залиты воском! Она позорит не только меня, но и весь оркестр своим присутствием!
Виктор Орлов, стоявший напротив, был бледен. Его сжатые кулаки были спрятаны в карманы брюк. В дальнем углу комнаты, прижавшись к стене, стояла Елена Васильева. Крупные слезы катились по щекам, размазывая тушь. Она пыталась сдерживать рыдания, прикрывая рот ладонью.
– Я не выйду с ней на сцену! – продолжала кричать звезда, направляясь к выходу. – Решайте, Виктор Петрович, или она, или я. Все просто.
Она демонстративно хлопнула дверью, направляясь в свою гримерную.
Слухи о возникшей симпатии между её официальным ухажёром и скрипачкой Васильевой долетели до Насти, успев обрасти пикантными подробностями. Их безобидное чаепитие в местном буфете стало вечерним походом в кафе, с возможным продолжением вечера. Но что позволено Юпитеру, не позволено быку. Мысль о том, что этот вечно ждущий её внимания и одобрения юноша мог предпочесть кого-то другого, приводила Романову в ярость.
Войдя в свою гримерку, она с силой швырнула скрипку и смычок на кресло.
– Как он посмел! – прошипела она, глядя на свое прекрасное, пусть и разгоряченное от гнева отражение в зеркале. – Я позволяю ему быть рядом, а он смеет ходить на свидания с другими!
Конечно, её ревность не имела ничего общего с любовью. Это было чувство собственника, обнаружившего, что его вещью, которую он и не думал использовать, вдруг заинтересовался кто-то другой. И этот кто-то оказался настолько ниже её по статусу, что это было вдвойне оскорбительно. Убрать Васильеву со сцены стало для неё не просто капризом, а насущной необходимостью, актом утверждения своей власти. Чтобы все знали: то, что принадлежит Насте Романовой, даже если она сама этим не дорожит, не должно принадлежать никому другому.
В гримерную постучались. Три робких, несмелых стука, которые потонули в гнетущей тишине, стоящей в этом крыле здания. Прежде чем Настя успела ответить, дверь приоткрылась, и в проеме показалось бледное лицо Алексея Петрова. Он только что был свидетелем скандала, и теперь его взгляд был полон животного страха и вины.
– Настя, – его голос сорвался, и он сглотнул ком в горле, – я всё слышал. Прошу тебя, успокойся. Ты не представляешь, как больно было видеть тебя в такой ярости.
Она сидела, отвернувшись к зеркалу.
– А тебе какое дело до моей ярости? – её голос был холодным и острым, как лезвие. – Иди утешай свою бездарную подружку.
– Не говори так! – вырвалось у него с мольбой. Он сделал шаг внутрь, его руки дрожали. – Ты же знаешь, что для меня нет никого, кроме тебя. Ты – моя богиня. Она ничего не значит. Я люблю только тебя. Всей душой. Я не могу дышать, когда ты не рядом.
Он судорожно полез в карман и извлек небольшой, но удивительно изящный бархатный футляр. Движения его были лихорадочными, полными отчаянной решимости. Это была не просто попытка сделать приятное – это был жест человека, ставящего на кон все, что у него есть, пытаясь задобрить разгневанное божество.
– Я… я хотел в другой обстановке, но… – дрожащими руками он открыл крышку.
На бархате, холодно сверкая в свете лампы, лежало кольцо. Не брошь, не безделушка, а настоящее, изысканное кольцо с крупным овальным сапфиром, окруженным россыпью бриллиантов. Дорогое. Очень дорогое. Для скромного, молодого музыканта – неподъемное.
Настя медленно повернула голову. Её взгляд, холодный и оценивающий, скользнул по его дрожащим рукам, задержался на сверкающем камне. В её глазах что-то дрогнуло – не радость, не любовь, а удовлетворение хищника, чувствующего свою власть.
Она не протянула руку. Не улыбнулась. Лишь кивнула на туалетный столик.
– Положи туда, – сказала она коротко, снова отворачиваясь к зеркалу, будто только что приняла дань от вассала. – И лучше иди. Я пока не готова обсуждать это.
Алексей, сраженный и униженный, но пойманный в ловушку собственной любви, бережно опустил футляр на полированную поверхность. Он постоял еще мгновение, надеясь на хоть какое-то слово, взгляд, но ничего не последовало. Тихо закрыв за собой дверь, он ушел.
Как только щелкнул замок, Настя быстро подошла к столику, взяла футляр и открыла его. Она не надела кольцо. Она лишь провела пальцем по холодному сапфиру, и на её губах заиграла торжествующая, жестокая улыбка. Слезы Васильевой, унижение Петрова, вымученная уступчивость Орлова – все это сложилось в идеальную картину её тотальной победы. Она с силой щелкнула футляром и бросила его на столик. Прощения он так и не получил. Но она приняла его жертву. И это было куда важнее.
На мгновение звёздная скрипачка расслабилась, откинулась на спинку кресла, и с наслаждением ощутила сладость только что одержанной победы. Она закрыла глаза, глубоко дыша и приводя чувства в порядок. Власть была упоительна, но требовала много энергозатрат.
В этот миг дверь с грохотом распахнулась, ударившись о стену. На пороге, затмевая собой весь свет из коридора, стоял Виктор Орлов. Его лицо было искажено не просто гневом – яростью.
– Хватит! – его голос прорвался сквозь сдавленные зубы, низкий и звенящий, как удар стали. – Этот цирк надо прекратить! Сейчас же.
Настя вздрогнула, но мгновенно оправилась, приняв позу оскорбленной невинности.
– Виктор Петрович, у Вас нет права врываться ко мне вот так! Я отдыхаю перед вторым отделением.
– Перед вторым отделением? – он с силой шагнул вперед, его тень накрыла её. – Перед вторым отделением артист готовится, а не устраивает истерики и не травит коллег! Ты перешла все границы, Настя.
– Эта бездарная серая мышь фальшивит! – выкрикнула она. – Я не позволю…
– Замолчи! – он рубанул воздух рукой. – Не позорься сама и не позорь меня. Я двадцать пять лет в музыке. Я точно знаю, кто фальшивит. – Орлов подошел совсем близко. – Сегодня фальшивит не она! А избалованная девчонка, возомнившая себя звездой!
– Я и есть звезда, дядя! – вскрикнула Анастасия, вскакивая со своего места. – Так что выбирай, кто будет во втором отделении на сцене. Я или она. Та, на кого пришли посмотреть все эти люди, или неизвестная никому вторая скрипка. Кстати, напомню тебе, дядюшка, что благодаря мне господин Левин содержит целую армию нахлебников. И тебя, в том числе.
– Ты переходишь все границы, Анастасия! – от неожиданной дерзости Орлов растерялся, что было совершенно не свойственно уверенному и жёсткому маэстро.
– Границы? – она истерично рассмеялась ему в лицо. – Я и есть та граница, за которую всем вам не позволено переходить! А сейчас оставьте меня, Виктор Петрович, у меня всего двадцать минут, чтобы подготовиться ко второму отделению. Мне нужно переодеться. Это платье пропахло скандалом.