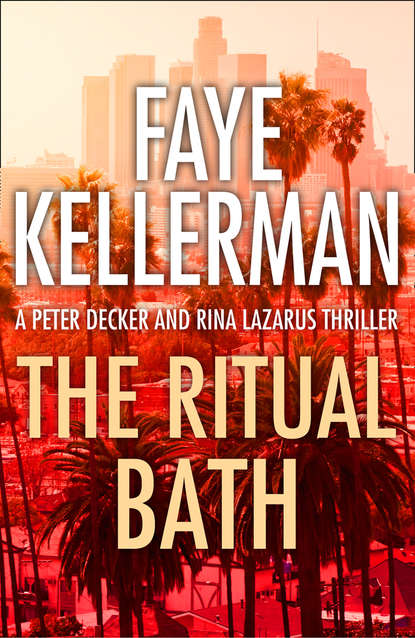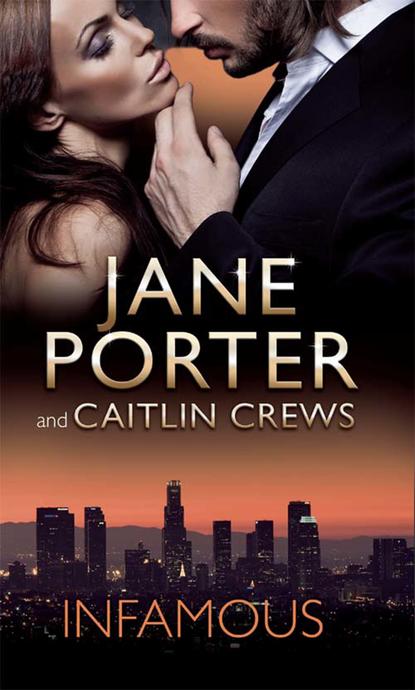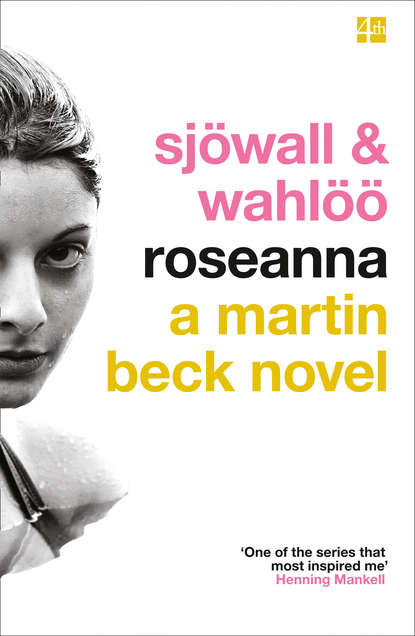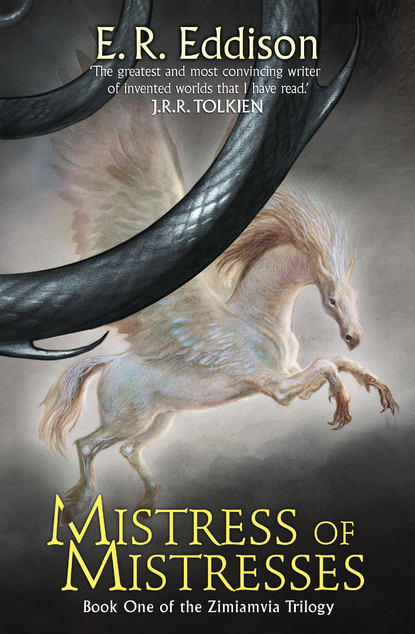Камни жизни. В поисках силы

- -
- 100%
- +
Их миссия наконец обрела новый, ясный и пугающий вектор, указанный ей самой. Теперь предстояло пройти по этому пути до конца, не зная, что ждёт их в финале – долгожданные ответы или смертельная западня, приготовленная специально для тех, кто посмеет прислушаться к шёпоту снов.
***Дорога в Чунь растянулась для Рината в бесконечный, изматывающий месяц. Тридцать дней и ночей, каждый из которых был похож на предыдущий: однообразный стук колёс, вечная пыль на зубах, пронизывающий до костей ветер в горных перевалах и липкий, удушливый зной в долинах. Каждый толчок повозки о камень отзывался в его измождённом теле новым витком тревоги, сжимавшей горло холодными, невидимыми пальцами.
Он кутался в дорожный плащ, безуспешно пытаясь углубиться в чтение трактата о редких горных травах. Но наука, всегда бывшая его убежищем, на этот раз отвернулась от него. Буквы расплывались и плясали перед глазами, уступая место навязчивым, пугающим образам: внезапная засада в тесном ущелье, где из-за каждого камня мог появиться призрак с лицом брата; свист стрел, летящих прямо в сердце предателя; лицо Тимура, искажённое не столько гневом, сколько недоумением и болью от его измены.
Но хуже всего был другой образ – ледяной, абсолютно безразличный взгляд Станислава. Он видел его во сне: младший брат не нападал, не обвинял. Он просто смотрел сквозь Рината, как на пустое место, на пыль на дороге, которую можно просто смести. И в этом молчаливом отрицании его существования было нечто в тысячу раз более страшное, чем любая ярость.
Целый месяц. Целый месяц он был заложником собственного страха, запертым в клетке из стука колёс и терзаний совести, медленно, но верно приближаясь к месту, которое должно было стать его новым домом, но пока ощущалось лишь как отсрочка перед неминуемым приговором.
Мила, напротив, казалась полностью преображённой. Получив на прощание от Ориана чёткие, жёсткие указания – немедленно усилить границу и лично докладывать о любых пойманных горкейлийских лазутчиках, – она чувствовала себя не опальной изгнанницей, а полководцем, наконец-то возвращающимся на свой законный плацдарм. Каждое слово короля было не оковами, а оружием в её руках, официальным разрешением на то, что она и так планировала. Её глаза горели не просто решимостью, а холодным огнем отточенной стали, а в её осанке читалась непоколебимая уверность хищницы, вернувшейся на свою территорию.
И вот караван, наконец, достиг цели. Мила замерла на пороге своих покоев в чуневском дворце, сделав глубокий, победный вдох. Знакомый воздух, пахнущий пчелиным воском, сандалом и слабой, сладковатой пылью, стены, видевшие её взлёты и падения… Она медленно провела ладонью по резной деревянной спинке своего старого кресла, смахнув невидимую пылинку, и на её губах расцвела счастливая, властная улыбка, в которой не было ни капли тепла – лишь безраздельное чувство собственности.
Она обернулась к застывшему в нерешительности Ринату, всё ещё бледному и напряжённому, словно призраку, занесшемуся в её обитель случайным сквозняком.
– Ну вот мы и дома, мой милый, – произнесла она, и её голос прозвучал твёрдо и звонко, заполнив собой всё пространство и полностью заглушая тихий ужас в его глазах. – Настоящем доме. Теперь всё будет по-нашему.
Она была дома. И это означало, что каждый её шаг, каждое её слово отныне будет законом. А он, её учёный муж, был всего лишь ещё одним элементом интерьера в этом её возрождённом мире – ценным, но абсолютно подконтрольным.
Ринат пытался обустроиться в Чуне с тем же тщанием, с каким когда-то систематизировал свои исследования. Он приказал перенести свои книги в просторный, светлый кабинет с видом на внутренний сад и принялся расставлять их в идеальном порядке, пытаясь воссоздать подобие своего прежнего убежища. Но знакомый запах старой бумаги и чернил тонул в густом, чужом воздухе дворца, пахнущем чужими духами, чужими традициями.
Он попытался наладить отношения с местным мудрецом, седовласым старцем по имени Элиан, принеся ему в дар редкий трактат о созвездиях Южного полушария. Мудрец вежливо принял дар, поблагодарил, но его взгляд оставался пустым и отстранённым. Ринат пытался завести разговор о философии, о свойствах местных трав, но старик отделывался односложными ответами, а в его глазах читалось лишь одно: «Предатель. Чужак».
С прислугой было не лучше. Когда он, желая быть добрым, попытался заговорить с горничной, та отпрянула от него, как от огня, и, бормоча извинения, выбежала из комнаты. Он слышал, как за дверьми сдерживаемый шёпот обрывался при его появлении. Он был призраком в собственном доме – все его видели, но никто не хотел признавать.
В отчаянии он начал тайком выезжать в город в зашторенной карете. Он смотрел на узкие, грязные улочки, на переполненные рынки, на людей в поношенной одежде. Его учёный ум сразу же отмечал проблемы: антисанитария, недостаток чистой воды, перенаселённость. Он строил планы: вот здесь можно проложить новый акведук, здесь – открыть бесплатную лечебницу, здесь – организовать общественные бани.
Но между ним и этими людьми лежала невидимая, но непреодолимая стена. Он видел проблемы, но не чувствовал их кожей. Он хотел помочь, но они видели в нём лишь ещё одного правителя в золочёной клетке, чья благосклонность так же далека и непонятна, как смена времён года.
Он возвращался во дворец с головой, полной гениальных проектов, и с душой, опустошённой до дна. Он был принцем, мужем правительницы, обладателем огромных ресурсов. Но он был самым одиноким и абсолютно чужим человеком во всём Чуне. Его тюрьма сменила стены на золотые решётки, но от этого не стала менее прочной.
Отчаяние и чувство бесполезности, в конце концов, нашли себе выход. Если Ринат не мог завоевать доверие людей словами или присутствием, он сделает это делом. Грандиозным, полезным, неоспоримым делом, которое останется в веках. Он погрузился в архивы, изучая старые карты водных источников и инженерные трактаты времён расцвета Антлантов. И в его голове родился проект, затмевающий всё, что он делал до сих пор, руководствуясь сухой логикой и желанием доказать свою ценность, он принялся за дело.
Великий Водопровод Чуня. Так он мысленно называл своё творение. Проект, который должен был решить проблему нехватки чистой воды раз и навсегда. Он лично разработал чертежи системы глиняных и каменных труб, самотеком доставляющих воду с горных источников прямо в сердце города, к общественным колодцам и фонтанам. Он не спрашивал разрешения у Милы, видя в этом проявление своей самостоятельности. Он просто представил ей проект как свершившийся факт, сверкая глазами и цитируя расчёты.
Началось великое строительство. Город огласился лязгом лопат, скрипом тачек и руганью рабочих. Грязные траншеи, словно шрамы, расползались по улицам. Пыль стояла столбом. Ринат, не обращая внимания на косые взгляды, ежедневно появлялся на «стройплощадке» в дорогом, покрытом пылью камзоле, что-то мерил, заглядывал в свитки и пытался что-то объяснить рабочим.
А народ Чуня роптал. Их жизнь и без того была тяжёлой, а тут какой-то горкейлийский выскочка, муж их княгини, перекопал все улицы, парализовал торговлю и гоняет их на непонятную, изнурительную работу. Они не видели гениального замысла. Они видели лишь грязь, неудобства и нового начальника. Шёпот «предатель» сменился на более злое и обидное – «дурак».
Мила же наблюдала за этой суматохой с ледяным, отстранённым любопытством. Она видела его рвение, его наивную веру в силу инженерной мысли. И видела растущее недовольство. Она не останавливала его. Этот грандиозный, неуклюжий проект был идеальным громоотводом для народного гнева. Пусть все ругают его, её чудаковатого мужа. Её же руки оставались чистыми.
Ринат же, стоя на краю глубокой траншеи и глядя на уставшие, озлобленные лица рабочих, с упрямым восторгом гения видел не хаос, а будущее. Он не слышал ропота. Он слышал будущий журчание чистой, холодной воды, которое навсегда смоет с него клеймо чужака и докажет всем – и Миле, и Тимуру, и самому себе – что он не просто перебежчик. Что он – созидатель. Он так отчаянно хотел в это верить, что закрывал глаза на то, что его великое деяние с каждым днём всё глубже закапывало его в глазах тех, кого он пытался спасти.
В Чуне установился новый, напряжённый ритм, биение которого отмерялось не часами, а поимкой шпионов. К Миле привели первых двух лазутчиков. Обоих из Горкейлии. Допрашивала она их лично, в том самом тронном зале с тёмными дубовыми панелями, что помнили шепот её прежних заговоров.
Но, к её глубочайшему разочарованию, мужчины – запылённые, с обветренными лицами простых солдат – оказались пустышками. Они не знали ничего. Ни планов Тимура, ни местонахождения Стаса. Их сбивчивые показания рисовали картину паники и неразберихи, зеркально отражавшую её собственную после разгрома под Белопустыней. Они бормотали о Камнях, но искали их наугад, «где-нибудь на юге», без карт и зацепок.
В этот момент в зал неслышной походкой вошёл Ринат. Услышав гортанную, знакомую до боли горкейлийскую речь, он не удержался. Он замер в тени у колонны, его учёный взгляд с холодным интересом рассматривал пленников.
И тогда один из лазутчиков, коренастый детина с перебитой губой, узнал его. Глаза пленника, до того потухшие, вспыхнули безумной, животной ненавистью. Он рванул веревки, и густая слюна, смешанная с кровью, с мерзким хлюпом полетела Ринату прямо в щёку.
– Предатель! – прохрипел он, и его голос, сорванный и хриплый, прозвучал оглушительно громко в тишине зала. – Кровь свою надо любить, а не с врагами целоваться! Смотри на него, брат! Принцы горкейлийские теперь службу юланколийским бабам несут! Твою мать продал за юбку!
Слюна медленно, противно стекала по щеке Рината. Он не смахнул её. Он стоял, окаменев, его лицо побелело, как мел. В его широко распахнутых глазах читался не гнев, а шок, всепоглощающий стыд и глубокая растерянность ребёнка, которого незаслуженно ударили. Он смотрел на этого человека – на своего бывшего подданного, в чьих жилах текла такая же кровь, – и видел в его взгляде саму сущность своего предательства, отлитую в свинцовую пелену абсолютного презрения. Это был не просто плевок. Это был приговор, вынесенный ему всей его родиной.
Мила холодно наблюдала за сценой, не шевелясь. Ни тени сочувствия к мужу, ни гнева за оскорбление. Лишь лёгкая, безжалостно-торжествующая улыбка тронула уголки её губ. Этот плевок был лучшим доказательством её правоты. Он был клеймом, навсегда приковывавшим Рината к ней. Дорога назад для него была закрыта. Он навсегда останется здесь. Её прекрасным, умным, окончательно сломленным трофеем.
***Они покидали Белопустыню на рассвете, когда первые лучи солнца лишь касались вершин мёртвых деревьев, окрашивая пепелище в болезненно-багровые тона. Стас, уже собравший свои нехитрые пожитки, остановился у порога сарая и обернулся к Мэри. Его взгляд скользнул по её лицу, а затем по пустым, закопчённым стенам.
– Нужно ли что-то взять с собой? – спросил он, его низкий голос нарушил утреннюю тишину. – Какую-нибудь вещь. На память.
Мэри стояла, глядя на оголённый остов своей кровати, на пятно плесени в углу, на щель в стене, сквозь которую дул зимний ветер. Она медленно провела ладонью по шершавой поверхности двери, ощущая под пальцами каждую занозу, каждую трещину. Но в её глазах не было тоски или сожаления. Лишь холодная, кристальная ясность.
– Нет, – тихо, но очень твёрдо ответила она. – Ничего. Мне нечего здесь брать. И нечего оставлять.
Она повернулась к нему, и в её зелёных, слишком взрослых глазах читалось не детское горе, а решение, выстраданное за годы одиночества.
– Я всегда чувствовала себя здесь чужой, Стас. С самого начала. Как будто меня по ошибке принесли в этот дом и забыли забрать. Эти стены… они не хранили меня. Они запирали. Этот запах нищеты и отчаяния… он въелся в меня, но это не мой запах. Я хочу его стереть. Я хочу оставить здесь всё. Всю Белопустыню. Не только пепел, но и память о ней.
Она сделала последний, решительный шаг через порог, не оглядываясь.
– Я не хочу ничего, что связывало бы меня с этим местом. Пусть оно останется там, позади. Как страшный сон.
Они уже были готовы тронуться в путь, когда Стас, затягивая ремень на своём ранце, резко замер. Его взгляд, острый и безошибочный, устремился к краю деревни, где скелеты домов сливались с серой дымкой утра. Он не услышал ни звука, не уловил явного движения. Это было чутьё хищника, ощущение другого живого присутствия в мёртвом пространстве.
– Жди здесь, – коротко бросил он Мэри и бесшумно ринулся вперёд, растворившись между почерневших брёвен.
Через несколько минут он так же бесшумно вернулся, ведя перед собой старика в потрёпанной одежде, но с пронзительным, не по годам ясным взглядом. Это был шаман Корт.
– Он сказал, что ждал тебя, – без эмоций прокомментировал Стас, слегка подтолкнув старика вперёд.
Мэри с удивлением смотрела на изгнанного провидца, которого все в деревне боялись.
– Что тебе нужно, старик? – спросил Стас, его голос звучал как скрежет стали. – Говори быстро.
Корт не испугался. Его взгляд был прикован к Мэри.
– Я ждал её, – прошептал он, и его голос был похож на шелест сухих листьев. – Много лет назад… в последний раз, когда Юланк говорил со мной, прежде чем дар покинул меня… он велел передать тебе кое-что, девочка. Когда придёт время.
Сердце Мэри ёкнуло. Юланк.
– Что? – выдохнула она.
– Он сказал: «Скажи ей, чтобы она не боялась открывать свою душу другим. Её сила не только в том, чтобы видеть. Она – в том, чтобы быть увиденной. И пусть она научит этому другого». – Корт покачал головой, в его глазах мелькнула тень старой, не своей боли. – Я не понимал тогда, что это значит. Не понимал, кого и чему учить. И зачем. Я носил это все эти годы… как долг. Как последнее поручение.
Он замолчал, переводя дыхание, будто с него сняли неподъёмную ношу.
Стас слушал, не двигаясь, его лицо оставалось каменным. Эти слова о душах и учениях были чужды его миру стали, крови и приказов. Но он видел, как они отзываются в Мэри, как её глаза наполняются не страхом, а каким-то новым, глубоким пониманием.
Мэри смотрела на шамана, и ей вдруг стало жаль этого человека, много лет проносившего чужое послание, как проклятие. Она кивнула.
– Я услышала, – тихо сказала она. – Спасибо, что донёс.
Корт кивнул в ответ, облегчённо вздохнул и, не сказав больше ни слова, развернулся и зашаркал прочь, назад к руинам своей хижины, навстречу забвению.
Стас молча взвалил ранец на плечо.
– Пошли.
Глава 3. 992 год. Горкейлия
Общий план был выверен с леденящей душу точностью. Каждый винтик механизма – Фенрир, Каэл, Рорк – занимал своё место. И в целом она чувствовала холодную, безжалостную гордость архитектора, наблюдающего за идеальной работой своего детища. Но именно в этой идеальности таилась щемящая тревога. Слишком гладко. Слишком тихо. Война же никогда не следует чертежам.
Её пальцы, обычно твёрдые и уверенные, с едва заметной дрожью развернули очередной свиток. Донесение от Фенрира. Его призрачная сеть работала безупречно, как и предсказывал Стас: потоки зерна и медикаментов текли через дремучие леса и горные перевалы быстрее и живее, чем когда-либо по королевским дорогам. Блокада Кракса, этот железный обруч, была обращена против него самого.
Фенрир ей нравился. В нём не было ни раболепной угодливости придворных, ни звериной серьёзности выходцев из Шан-Оки. Он был как отточенный клинок – остроумен, лёгок на подъём и чертовски эффективен. «И за него поручился сам Станислав – как за брата», – напомнила она себе, и этого было более чем достаточно. В этом простом факте была странная утешительная математика: если такой человек, как Стас, способен на братство, значит, в их жестоком мире ещё остались неизменные константы.
Каэл на своей роли был столь же безупречен. Его перевоплощение в «принца Станислава» было настолько полным, что, казалось, он и сам начал верить в собственную легенду. Войска смотрели на него с растущим, почти пугающим пиететом, генерал Шен хранил гробовое, а потому особенно опасное молчание, а сам Каэл, кажется, наконец-то нашёл своё истинное призвание – не в тени, а на свету, неся бремя власти с неожиданной, врождённой грацией.
А где-то вдали, в самом сердце кузницы, доносясь сквозь каменные стены, ритмичный, неумолимый стук молота Рорка отбивал такт их общей подготовки. Это был пульс их надежды, тяжёлый и устойчивый.
И наконец, Тимур. Её Тимур, чьи глаза ещё так недавно были полны паники бездонного колодца. Теперь в них читалась усталая, но несгибаемая решимость. Глупые, порывистые решения остались в прошлом, сметённые суровой необходимостью. Он медленно, шаг за шагом, учился не просто нести свою корону, а врастать в неё, становясь с ней единым целым – правителем не по титулу, а по сути.
И всё же, отложив последний свиток, Элария почувствовала не облегчение, а тяжесть. Они выигрывали партию, но игра была далека от завершения.
Дверь в её личные покои закрылась с тихим, мягким щелчком, отсекая мир карт, донесений и железной воли. Здесь пахло не воском и пергаментом, а лавандой, которой служанки перекладывали бельё, и сладким молоком её сына. Элария стояла посреди комнаты, ощущая, как трещина, давно зревшая в груди, наконец, расходится.
Вошедшая повитуха, немолодая женщина с добрыми, умными глазами и руками, знавшими тайну жизни и смерти, сразу поняла, что дело не в обычной усталости.
– Ваше Высочество? – её голос был тёплым и бархатистым, как старое одеяло.
Элария не ответила. Она медленно, почти механически, сняла с волос золотые шпильки, знак её статуса, и бросила их на стол с глухим стуком.
– Агата… – её голос, обычно такой чёткий и властный, дрогнул и сорвался в шёпот. – Я… я больше не могу.
– Что не можете, светлейшая? – повитуха подошла ближе, не нарушая её личного пространства, но готовясь поддержать.
– Детей. Ещё детей. – Элария обхватила себя за локти, будто пытаясь удержать от распада. Всё её тело напряглось в порыве отчаяния. – Врачи сказали… после таких родов… – Она замолчала, сглотнув ком в горле. В её голове пронеслись не стратегические карты, а образы: призрачные девочки с волосами цвета тёмного мёда, мальчики с упрямым взглядом Тимура… целая вереница маленьких призраков, которым никогда не суждено было родиться.
Она была архитектором королевства, инженером человеческих судеб. Она могла повернуть реки снабжения и сокрушить козни врагов. Но она не могла дать жизнь ещё одному собственному ребёнку. Это было поражение, против которого все её хитроумные планы были бессильны.
– Я не смогу дать Лориану брата… сестру… – голос её окончательно предал её, превратившись в сдавленный стон. – Я дала короне наследника, и она отняла у меня всё остальное.
И тогда маска стратега, холодной и несгибаемой леди, рухнула окончательно. Слёзы, которые она копила месяцами, хлынули градом – беззвучные, но неудержимые.
Агата не бросилась утешать словами. Она молча подошла, обняла Эларию за плечи и мягко привлекла к себе, давая ей опору.
– Тихо, матушка, тихо, – она говорила ласково, как когда-то убаюкивала её после родов. – Вы подарили миру сильного принца. Это величайший дар. Не терзайте своё сердце призраками. Любите того, кто уже здесь, чьё дыхание вы слышите в соседней комнате. Его смеха вам хватит, чтобы заполнить весь этот дворец.
Элария позволила себе эту слабость – на несколько коротких, бесценных мгновений. Она оперлась лбом о плечо старой женщины, и её стройная спина, всегда прямая как стрела, сгорбилась под тяжестью материнской тоски. В этой тихой комнате, вдали от чужих глаз, она была не правительницей, не стратегом, а просто женщиной, оплакивавшей детей, которых ей никогда не суждено было обнять.
***Дорога до Чуня, которую в одиночку Стас преодолел бы за несколько дней, растянулась на две долгие, изматывающие недели. Он привык к изнурительным марш-броскам в Шан-Оки, когда его тело было просто инструментом, а ум отрешенно следил за целью, отсекая все лишнее. Он шёл бы легко и стремительно, как тень, не оставляя следов и не ощущая усталости.
Но рядом была Мэри.
Её хрупкость была для него не абстрактным понятием, а ежедневной, ежечасной реальностью. Он вёл их окольными, безлюдными тропами. Для него это были лишь неудобства. Для неё – сражение.
Он шёл впереди, своим телом прокладывая путь сквозь чащу, и слышал за спиной её сдавленное дыхание, когда колючки цеплялись за поношенное платье. Он чувствовал, как её тонкие пальцы впиваются в его рукав, когда она поскользнётся на корневище или погрузится по щиколотку в липкую грязь болот.
Идти главной дорогой было равносильно самоубийству – слишком много любопытных глаз, слишком много вопросов, на которые у него не было ответов. Но иногда, глядя на её осунувшееся лицо и тёмные круги под глазами, он ловил себя на мысли, что засад и погонь он почти не боялся. Его страх был иным – что это путешествие сломает её.
По ночам, разводя наскоро костёр в каком-нибудь гроте или под густыми елями, он наблюдал, как она, свернувшись калачиком, засыпала почти мгновенно, сраженная усталостью.
Но Мэри не жаловалась. Ни разу.
Лишь её учащённое, сбивчивое дыхание и капельки пота на висках выдавали невероятные усилия. Она молча карабкалась по склонам, цепляясь за корни и камни, и её маленькая, доверчивая рука намертво впивалась в его огромную ладонь, когда он перетаскивал её через особенно трудный участок. Её пальцы казались такими хрупкими, что он боялся сжать свою руку, словно она была слепым щенком, которого можно нечаянно покалечить.
И вместо стонов она, едва переводя дух, искала крупицы прекрасного во всём, что их окружало. Её голос, звонкий и чистый, резал тишину, к которой он привык.
– Ой, смотри, какая стрекоза! – восторженно выдыхала она, едва удерживая равновесие на зыбкой болотной кочке. – Совсем изумрудная! Таких я ещё никогда не видела!
Стас бросал короткий, оценивающий взгляд на насекомое, отмечая его местоположение и траекторию полёта. Но её восторг был таким искренним, что на мгновение он видел не потенциальную угрозу, а крошечное, сверкающее чудо.
– Ух, грибы! На ужин точно соберём, целая полянка!
Он уже знал, что они неядовиты. В Шан-Оки его учили отличать съедобные коренья от смертельных. Но её радость от этой находки заставляла его не просто кивать, а наклоняться и срезать несколько шляпок своим клинком, откладывая про запас. Для неё.
– А как тут после дождя пахнет! Прямо сказкой! – говорила она, глубоко вдыхая влажный, пряный воздух, в то время как он лишь чувствовал сырость, въедавшуюся в кожу и портящую кожаную амуницию.
Ей безумно нравилась его компания. Стас, всегда такой угрюмый и молчаливый, был для неё идеальным собеседником. Он никогда не перебивал, не бросал раздражённое «замолчи», не отмахивался. Он просто шёл рядом, изредка бросая короткое «ага» или кивая в ответ. Его орлиный взгляд постоянно сканировал окрестности, но Мэри чувствовала – он слушает. По-настоящему. Впитывает её бесконечный, как горный ручей, поток слов: истории о жизни в Белопустыне, о смешных привычках соседей, о ярких снах, о том, какая Рэна добрая, и как она, Мэри, в семь лет чуть не утонула в озере, пытаясь поймать говорящую лягушку.
И поначалу эта раздражающая, бесполезная трескотня постепенно стала для него чем-то вроде привычного фонового шума пути, вроде шелеста листьев или щебетания птиц. А потом… потом он начал её различать. Это был странный, но живой и тёплый звук жизни рядом с ним. Её болтовня заполняла пустоту в его черепе, не давая уйти в привычный мрачный самоанализ и ледяные воспоминания. Иногда, в самые неожиданные моменты, когда она с полной серьёзностью рассуждала о повадках лесных духов или о том, как облако на небе похоже на спящего барашка, в уголке его рта появлялась едва заметная, почти неуловимая тень улыбки. Настолько мимолётная, что он и сам не сразу её осознавал, словно луч солнца, на мгновение пробившийся сквозь толщу туч.
Они шли – молчаливый воин с глазами цвета грозовой тучи и болтливая девочка с волосами цвета лунного света – два одиночества, две вселенных, нашедшие друг друга на перепутье судьбы. И их тихая, странная, взаимовыгодная дружба крепла с каждым новым пройденным километром, с каждой её историей и каждым его, пусть и невысказанным, ответным кивком.
Мэри шла рядом, уже научившись ловко переступать через бурелом и обходить зыбкие трясины. Её неугомонный язычок, уставший за день от монологов о красоте мха и повадках белок, наконец сменил тему на что-то более опасное и личное. Тишина Стаса была для неё как запертая дверь, и сегодня она решила во что бы то ни стало найти к ней ключ.
Она сделала рывок, подбежав так, чтобы видеть его профиль, скрытый в глубокой тени капюшона.
– Расскажи о своём брате, короле, – потребовала она, вкладывая в голос всю накопившуюся за день решимость. Она ждала, что он отмахнётся, зарычит или просто проигнорирует.