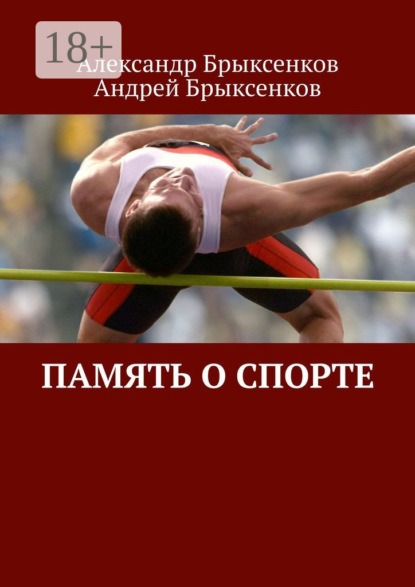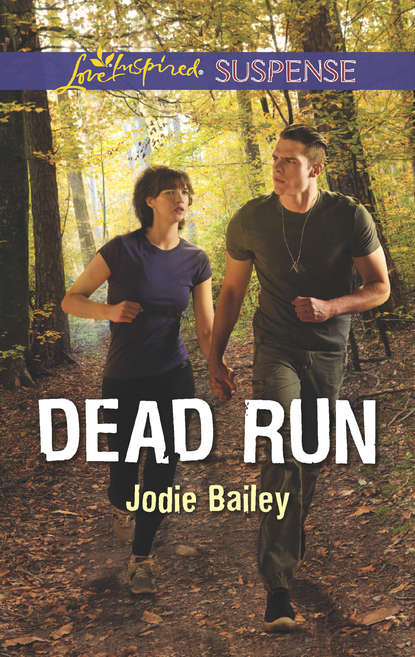Солнце идёт за нами

- -
- 100%
- +
Глава 3. Не поминай чёрта
Управившись со скотиной, Таисья позвала детишек домой. Она поставила на стол горячую картошку и усадила ребят.
– Поешьте да спать ложитесь, а я вам сказку расскажу. Новую!
Дети обрадовались и, затаив дыхание, приготовились слушать.
– В одной семье было три сына, – начала неторопливо Таисья. – Жили они очень бедно, и решил старший наняться на работу к черту. Заключили они между собой договор, что добрый молодец будет у него работать до тех пор, пока кто-нибудь из них не выскажет недовольство. Если черт будет чем-то недоволен, то отдаст крестьянскому сыну мешок серебра, а если тому что-то не понравится, тогда нечистый вырежет со спины у него ремень. Послал черт его пасти овец, а еду пообещал в поле привезти. Вот пасет овечек, солнце печет, ветер песком рот забивает, пить хочется нестерпимо и есть тоже. А черта нет и нет. Пригнал работник овец, а черт сидит и за обе щеки уплетает всякие яства.
– Всем ли ты доволен, человече?
– Ну что оставалось крестьянскому сыну, как только согласиться, что он всем доволен. Через неделю старший брат не выдержал голода и жажды и высказал свое недовольство. Обрадовался черт и вырезал у него со спины кусок кожи.
Средний сын подумал: «Экий ты брат неловкий, я – то уж добуду мешок серебра», – и пошел наниматься к черту в услужение. Но нечистый опять поставил те же условия:
– Если ты чем-то не доволен будешь, то я у тебя кусок кожи вырежу, ну а если я, то тебе мешок золота заплачу.
Вот пошел средний брат пасти коров, а черт обед в поле пообещал привезти. Солнце палит, суховей обвевает, жажда томит и голод мучает. Пригнал коров крестьянский сын и видит, что у черта щеки от масла да сметаны лоснятся.
– Всем ли ты доволен, человече? – спрашивает его.
– Всем – всем я доволен, – отвечает молодец нечистому.
Так прошло две недели. Не выдержал средний брат и высказал свое недовольство. Тогда лукавый вырезал у него кожу со спины и говорит:
– Вы ко мне Ваньку присылайте, уж младший-то не умнее вас будет.
Как узнал Иван о том, что и средний брат пострадал, захотел отомстить черту, пришел к нему и согласился на те же условия. Отправился Иван пасти лошадиный табун. Черта с водой и едой нет и в помине. Недолго думая зарезал Иван самого лучшего коня, нажарил мяса, поел, напился из родника и спит себе до вечера, на табун и не взглянет. Как стемнело, пригнал младший сын домой лошадей, да не к чёрту, а к себе на подворье, а родным сказал, что это задаток от хозяина получил. Чёрт ждёт – пождёт, а Ивана всё нет. Утром пришёл к нему Иван, тот спрашивает, где лошади. А крестьянский сын отвечает:
– Ты чем-то недоволен, хозяин?
Черт на попятную, всем, дескать, доволен, иди, мол, дальше паси.
Иван таким манерам и коз, и овец к себе домой перегнал. Видит нечистый, что разоряет его крестьянский сын, признался в своем недовольстве и отдал мешок серебра.
– Таюшка, это хорошо, что дети под сказку уснули, а всё-таки не годится к ночи этого-то поминать, да и сказка-то какая-то не наша, не русская.
– Это, Вася, странницы заходили передохнуть, квасу испить. Они и сказку рассказали, да ещё и прибавили, что времена-то нынче беспокойные, голодные наступают…
– Я, Таюшка, об этом и хотел поговорить. Боюсь я получку-то домой нести, стукнут обухом по голове, да и душа вон. Я тебе не сказывал: перед Пасхой караулили двое, да их я издали заприметил и переждал в кустах. Раньше мы с Чемпаловым, пока его в другую смену не перевели, ходили. Может, Антипа с собой брать? Двое, трое не один. А?
– Да нет, конечно, – подумав, продолжал Василий, – а все на дитя у самого последнего пропойцы рука не поднимется.
– Может, и вправду с ребенком-то помилуют, а то не донесешь денег, помрем с голоду. Только ты Саньку возьми, он тихонько будет в чурочки играть, никому не помешает, а Антип набедокурит чего-нибудь.
– И то верно, сын у нас младший удался: и рослый, и красивый, и в плечах уж шире Антипа, а ведь на три года младше. И умом-то вышел: недавно придумал старой корзиной без дна на Уфалейке пескарей ловить: зайдет на мелководье, ждет, не шелохнувшись, рыбью стайку, увидит – шмяк в воду плетенку и выбирает рыбу голыми руками.
– И на уху принес и кошке.
Вот так и получилось, что Санька пошел в пятницу с отцом на работу. Проходя узенькой тропинкой за спиной Василия, он предавался приятнейшим мечтам: все ребятишки позавидуют, когда узнают, что он на домны ходил. А вдруг кто-нибудь из рабочих резинку для рогатки или даже перочинный ножичек подарит, бывает ведь всякое.
В таких приятных мечтах прошла половина пути, потом Василий взял сына на руки, и Санька стал вовсе самым счастливым человеком на земле.
У завода, вопреки обыкновению, толпились люди, среди них были бабы и ребятишки. Хромой старик сторож охотно рассказал, что сегодня составляют списки, кому идти на австрияков. Отец, приказав Саньке сидеть возле сторожа, кинулся в проходную. В толпе бабы охали, ахали и гадали, кого забреют в солдаты: лавочников-то поди не тронут, откупятся они.
– Да уж, конечно, беднота в окопы пойдет вшей кормить.
Между тем у Василия отлегло от сердца, его как смирного и хорошего работника да с четырьмя детьми в списки не внесли. Но поработать ему в тот день так и не пришлось: прибежал его приятель, Алексей:
– Васька, Васька, беги скорее, там из пруда твоего Саньку достали.
Не помня себя, Василий кинулся к водоему: на берегу, окруженный народом, сидел Санька и икал.
– Ничего, живой, живой! Ничего, – слышалось со всех сторон. – Его какой-то чернявый парень вытащил, а потом почему-то ходу дал.
– Растерли его, только он ударился обо что-то, когда нырял, вишь, сидит как обалделый.
Дома, окончательно придя в себя, Санька рассказал, зачем он нырял в пруд. Оказывается, когда он стоял возле завода, то слышал от кого-то, что давным-давно во время пожара, купцы, спасая имущество, бросали кольца да брошки в воду, и вот бы их достать, да откупиться от воинской повинности. Санька-то все разговоры принял за чистую монету, да сиганул за драгоценностями, чтобы спасти отца.
– Друг мой сердечный, головушка-то не болит? – Обняла Таисья сына. – Ничего, ничего, поправишься! Завтра в поселок на Волчью гору пойдем к Чертовой, она живо тебя вылечит, а то вон глазки-то какие мутные.
Но Санька вдруг забился и закричал:
– Не пойду, не пойду к Чертовой кусок со спины вырезать, не пойду!
Таисья испугалась и закричала тоже. Но Василий, быстро сообразив, в чем дело, стал успокаивать сына:
– Это фамилия такая, это бабушка-знахарка, костоправка, – и на Таисью:
– Вот сказка-то, когда аукнулась. Не поминай черта.
Глава 4. Печь
Заводская домна топится и днем, и ночью, огонь в ней не угасает никогда.
Полуголые, мокрые, черные от копоти рабочие по несколько раз в сутки открывают заваленное песком устье печи. «Господи Иисусе Христе Сыне Божий, спаси и сохрани», – шепчет кто-то, прося защиты и милости.
Прокаленная, хрупкая руда вместе с древесным углем превращается в печи в белую расплавленную массу. Сказочными лазоревыми змейками – медянками бежит она из открытого зева по земляному ходу, и в низком кирпичном помещении становится светлее… Адский труд, жара, как в преисподней.
Война 14-го года поубавила число рабочих почти на четверть. Снизилось производство, и заводское начальство стало платить мало: двадцать – шестьдесят копеек в день.
«Не густо! Как семь кормить?» – думал Василий, глядя на остывающий в формах чугун. Любил он наблюдать, как сначала молочная масса краснеет, потом подергивается синью и темнеет. В этом была своего рода поэзия их тяжелой напряженной работы.
Но в этот хмурый, ненастный осенний день не пришлось ему полюбоваться на плоды своего труда… К проходной прибежала старшая дочь Любонька с вестью, что дядя Гриша с Действительной вернулся, и что уже мама Таисья с Ириной накрывают на стол, и что дядя вот, дает красненькую, – нужно докупить еще водки, да не с белой пробкой, как обычно, а пофасонней – с красной.
Пока Василий договаривался с подменой, пока заходил в лавку, уже наступил вечер и в их большом дворе стоял дым промыслом. За нехитрым столом сидели не только родственники, друзья и соседи, но и незнакомые люди, примазавшиеся к случаю выпить. «Впрочем, так оно и бывает, – подумал Василий, – а только бы не утянули чего-нибудь со двора». Но потом спохватился: «Ох, о чем это я? Брат с войны живым, непокалеченным вернулся, а я о добре думаю».
В это время Григорий заметил младшенького, стоявшего в воротах, но подходить к нему не спешил, смотрел мимо с каким-то отчуждением и неприязнью. Василий же, радуясь и шалея от счастья, только и повторял: «Молебен бы надо благодарственный отслужить, молебен».
– Сядь на место, – грубо оборвал его Григорий. – Что вы о войне знаете? Что? – уже кричал он, разливая водку.
– Так расскажи, – наивно предложила Ирина, невеста Григория.
Но тот, смерив ее тяжёлым взглядом, ушел в сарай, сел на козлы и стал мять и давить что-то в руках. Хрупкий предмет в ладонях лопнул, и с кулака стала каплями стекать кровь. Все присутствующие непонимающе переглянулись, не решаясь подойти к нему. Парни потихоньку потянулись домой. Володька Чемпалов хотел что-то по-соседски сказать, но Григорий сидел с таким злобным выражением на лице, что тот, кашлянув, попятился и пошел прочь. Только Таисья да Ирина, чуть слышно переговариваясь, убирали со стола. Василий, подойдя к жене, тихонько спросил, не говорил ли брательник, отчего он так рано вернулся с Германской, уж не дезертир ли случаем? Таисья отрицательно покачала головой, а у самой нехорошо ёкнуло в груди и спёрло дыхание. Если дезертир , тогда беды не оберешься.
– Иди к нему, – прошептала она Ирине, – может, уже успокоился, ждала – дождалась как-никак?
Но Григорий сидел все в таком же положении и с каким-то обречённо – мрачным выражением на лице.
– Как же так получилось? – гадал про себя он. – Почему ему дали бронь и отозвали назад?
Он до сих пор помнит завистливо – заискивающие голоса солдат:
– Видно, похлопотали за тебя?
– Может, купили бронь – от?!
– Свезло, паря, тебе, свезло.
– Бывает же, смотри, – дуракам везет.
А потом опять накатили те воспоминания, от которых он хотел избавиться и не мог, от которых вскакивал ночами, липкий от пота, с раззявленным в немом крике ртом. Ну как забыть то, что он видел? Как? А память услужливо рисовала одну и ту же картину…
Сизый дым стелется над окопами, и чует он, Гришенька, запах сладкий, медный, нанюхался он его в родном заводе.
– Эй, ребята, неладно дело. Смертным запахом тянет!
Смех рядом:
– Блазнится тебе, Гришака; кажется, деревенская твоя рожа!
Стыдно, совестно Гришке, а все же он говорит:
– Респираторы бы сделать надо, от греха подальше.
Смех кругом.
– Ишь грамотный. Слово какое знает. Учёный.
Не слушают парня. Засомневался и Гришка, а только сделал себе из нательного повязочку, землей вместо угля переложил, из баклажки водичкой смочил да и надел. Ржут кругом, как кони.
– Королевишна заморская, ряху прикрыла. Эй, дамочка, дай я тебя поцелую!
Обиделся Гришка, отошел в кусты боярышника, частые – частые, что сразу за окопом начинались да и уснул вроде.
Григорий попытался отогнать воспоминания, но они настойчиво появлялись перед глазами. Очнулся он тогда, а пошевелиться не может, во рту сухо, губы солёные, язык шершавый, как после глотошной, дышать нечем, голова болит, руки тяжелые, ног вообще не чует, а в окопах лежат они, православные: глаза выпучены, языки синие вывалены, ноги скрючены; его товарищи лежат неживые, совсем мертвые. Нет, застонал рядом с ним кто-то, тяжело так, протяжно, тонко так, как ребятенок грудной от скарлатины. Подполз он, Гришка, видит – ротмистр, здоровенный мужик, слюни пускает, под себя мочится, а вдали говор слышится ненашенский: «Гав-гав, ррав – рав». Подхватил тогда под мышки Гришка тушу мычащую и поволок в лес, кровь, хлынула из носа, да только легче стало. Дотащил ношу свою до оврага да и скатил вниз. Там и нашли их, двух живых из роты, двух…
С болезненным усилием Григорий заставил себя думать о другом, о том, как провожали его на германскую: до станции вез его Василий, по обеим сторонам сидели Иринка и Таисья. О чём он думал тогда? Завидовал брату, что тот остается дома, что Васька уже дважды женат и жена у него вторая добрая, Любку не гнобит, четверых детей родила и только один помер, да и собой ладная, как девка, да и с приданым. Отчего-то подробно он все вспомнил и пересчитал: машинку швейную, два узла белья, сундук с одеждой, козу, клетку кур. Потом он помнит, что думал о своей невесте; если убьют его, кто ее замуж возьмет? Она, конечно, девка видная: высокая, полная, бровястая, да уже перестарок. А он, Григорий, что хорошего в жизни видел? С двенадцати лет при заводе мантулил, с шестнадцати лет избушку строил, а тут накося-выкуси: едет в телеге, брат Серко погоняет; видно, скорее от него избавиться хочет. И очнувшись от дум, позвал Василия:
– Что жалеешь, что я вернулся? Дом хотел заграбастать?
Обычно спокойный, Василий, увидев фигу, поднесенную к самому носу, выкрикнул:
– Иди в свой дом, проспись! Завтра поговорим.
И, несмотря на протесты Григория, что дом-то у него не протоплен, выдворил его за ворота на улицу.
Ирина осталась плакать у них, Таисья, как могла, утешала её; и вскоре они стали выдвигать предложения одно нелепее другого, думая, отчего Гриша не прослужив и года, вернулся.
– На дезертира не похож, с околоточным за руку поздоровался, – вспомнила Ирина.
– Может, откупился, – в свою очередь сказала Таисья.
– Да нет, откуда у него деньги-то, – подал голос Василий.
– А если с убитого что взял? – ужаснулась Ирина.
– Что ты, что ты, девонька, – запричитала Таисья, – помнишь, сама ведь наказы ему давала, чтоб живым вернулся. Он и поклялся, что спать на посту не будет, все терпеть, что выпадет ему и с убитых ничего не трогать.
– А может, отмолила его? Ведь каждый вечер молитвы читала, один только раз и заснула, – подумала вслух Ирина.
– Все может быть. Может, и оградила Царица Небесная.
На том и порешили, что утро вечера мудренее. Завтра будет новый день – что-нибудь да и узнается.
Глава 5. Анна
– Аннушка пришла, Аннушка, – пританцовывая от нетерпения, кричал Сашенька, вбегая в избу.
Таисья тоже очень обрадовалась, ведь так нечасто в последнее время к ней сестрица старшенькая приходила. А теперь, как к господам в горничные поступила, и вовсе редко виделись.
– Садись, Аннушка, садись, – постелила Таисья чистую тряпку на деревянную лавку, – видишь, оделась-то как по-городскому, в платье.
– Это хозяйка мне свое старое подарила, и вот еще ботиночки есть на каблучках, с пуговками, – улыбнулась, но как-то невесело Анна. – Таюшка, ты давай на стол накрывай да Гришу с Ириной позови. Я целую корзину гостинцев принесла да узелок подарков. Проститься по-людски хочется.
– Как это проститься? – в один голос удивились Таисья и Люба, и мука (они замешивали тесто) посыпалась на пол из рук опешившей Любочки.
***
Новость о том, что господа уезжают за границу и надолго, берут с собой сестру Таисьи Анну Козыреву с Базарной улицы, вмиг облетела всю Шуранку, и гостей в дом Семёновых набилось видимо-невидимо: даже с русской печи свешивались ноги, на сундуках парни умудрились посадить себе девок на колени. Те, время от времени визжали и щипали парней в отместку, внося еще больший переполох. Наконец, околоточный Никифор, расправив темные усы на расплывшемся, но все еще миловидном лице, сказал:
– Бабы, отставить базар! Таисья, наливай! Анна, рассказывай! Все прочие молчать!
– Ай, – вскрикнула молоденькая, очень красивая Верочка и наградила Антипа звонкой затрещиной. Все засмеялись:
– Мужичок с ноготок, а туда же.
Всем стало весело, поднялся гвалт и шум, и долго Василий и Таисья не могли успокоить собравшихся. Тогда на помощь пришла Чемпалиха. Своим громким, почти мужским басом, она взвыла:
– Да замолчите вы, пересмешники, чай проводы, а не свадьба.
Все пристыжено утихли, и Анна начала свой рассказ:
– Господа говорят, что в столице бунт начался, они и боятся, что власть меняться будет.
– Как в пятом годе? – перебил ее Никифор.
– Хуже. Говорят, царь Николай отрекся от престола.
– Да не может такого быть, – загудела Чемпалиха, – завоюет нас теперь немец.
Многие перестали не только жевать, но и отставили рюмки:
– Как без головы-то жить, без царя-то есть?
– Да так ему, кровопийце, и надо, – послышались чьи-то слова.
– Да тихо вы, тихо, дайте Анне-то сказать. А то у нас газеток-то нету, так ничего и не узнаем.
– Революция в Питере, – пыталась продолжить Анна, но ее перебили:
– Кто вместо царя-то хоть?
– Говорят, Керенский.
– Он хоть князь?
– А кто его знает. Мои-то поедут в какой-то Харбин, а там еще дальше. Говорили куда, да я не запомнила.
– А с домом как? Продают или оставляют пока?
Все продают. Говорят, надолго заваруха.
– Ну а тебе-то зачем ехать с ними? Вот еще принцесса выискалась, – очень недовольно прошептал Никифор (он недавно овдовел и всерьез присматривался к Анне).
А это время весь шум перекрыл горький детский плач:
– Аннушка, не уезжай! Я тебя так люблю, так люблю, что когда ты помрешь, то я в твою могилку копеечку положу!
Все смолкли, пораженные глубиной детского горя, и впервые задумались, а что с ними-то теперь будет, как дальше-то жить и чем обернется эта революция.
***
Таисья погладила Сашу по голове и поманила Анну за собой:
– Пойдем в баню, там все и расскажешь. Топлена она, я стираться думала вечером.
Анна оглядела знакомый предбанник, окошко, закрытое белым полотенцем с вышитым петухом – ее подарок, пучки мяты и зверобоя, веники, заботливо и аккуратно связанные Василием, и села на топчан, уткнувшись в самодельный столик, горько заплакала:
– Запах этот банный, ромашковый всю жизнь буду помнить, а только нельзя мне оставаться.
– С чего это ты, Анна, надумала отца-мать, нас бросить, с чужими людьми неизвестно куда уехать?
И уже ласковее:
– Что тебя гложет, Аннушка? Смотрю: который год невеселая ходишь, пасмурная и свах на порог не пускаешь.
И рассказала Анна тайну, от которой несколько лет не просыхает девичья подушка.
– Сватает тебя Вася, робеет, а рядом развеселый чернявый парень стоит, за словом в карман не лезет. Вот с той первой минутки запал мне твой деверь Гришенька в душу. Небось, не помнишь, как я к вам в Шуранский конец чуть ли не каждый день бегала, ты еще ругала меня, что одна через болото хожу.
– Как не помню, помню, – вздохнула Таисья.
– А все лишь для того, чтобы Гришу увидеть, на глаза ему попасться. А после встретила его с Ириной, они обручились только-только тогда. Как мне с ней равняться? Она статная, красивая, брови черные вразлет, а я? Он меня всегда воробышком называл, – всхлипнула Анна. – Недавно идут они вместе, Ирина беременная, так я, горемычная, словно по стеклу голыми ногами прошла.
Посмотрела Таисья на сестру, увидела, сколько боли в ее глазах, поняла, какое чувство испытывает Анна, и сказала:
– Езжай с Богом, если время не лечит, то расстояние всё дымкой, туманом покроет, не так горько будет.
И размашисто перекрестила:
– Господи, спаси и сохрани от всякого зла.
Анна хотела было уже возвращаться в избу, но Таисья окликнула ее:
– Гришке ты помогла вернуться?
– Мой грех и моё счастье. Уговорила хозяйку попросить мужа (он с заводчиком-то в приятелях), чтоб Гришеньке бронь сделали, будто бы очень нужный в заводе человек.
– Ладно, с родителями простись по-хорошему, благословение прими, а я Николе-Угоднику свечу поставлю. Езжай с Богом, – повторила Таисья.
***
… Не пришлось Сашеньке исполнить свое обещание. Уехала Анна с господами, и больше никогда о ней не слышали.
Глава 6. А шинель-то тятина
В каменном доме прохладно и сумрачно. Окна его глядят на восток, и солнце попадает в них только утром. Вечером закатные лучи освещают его заднюю стену и огород, окрашивая их кроваво-красным цветом.
Дети уселись на лавке возле стола и внимательно слушают мать:
– Утка в море, а хвост на заборе. Что это?
– Ковшик, ковшик, – выкрикнул Антип.
– А это? У ней ничего не болит, а всё стонет.
– Свинья, – опять торопится опередить остальных Антипушка.
– Ну эти легкие, а вот сейчас трудную загадаю:
Летела птица,
Не крылата,
Не перната.
Носик долгий,
Голос тонкий,
Кто ее убьет,
Человечью кровь прольет.
Задумались ребятишки, притихли. Оглядела их мать, и сердце ее заныло: «Что с ними станется? Заводы-рабочим, оно, конечно, неплохо, да только лучше бы тихо-мирно зарплату получать, жить без войны, без смуты; оно и ладно было бы, когда понятно-то. А сейчас ничего не разберешь. Вот и опять Василия что-то долго нет. То ли собрание? А может, не ровен час встретился лихим людям? Нет, нет, на собрании он, на собрании, – перебила она себя. – Богородице, Дево, радуйся… Николае-Угодниче, спаси и сохрани.
Последние времена, знать, наступают, – продолжала рассуждать Таисья, – люди всякий стыд потеряли! Деверь говорит вчера Саньке: «Сматерися, пострел, я тебе кральку дам». Так со слезами пополам и ел Саня бублик. Эх, ругать есть кому, кормить некому…»
Ее невеселые мысли прервала семилетняя дочь Катя, отчего-то не растущая девчонка:
– Комиссар, мама?! Комиссар человечью кровь прольет, у него нос длинный и голос, как у Любки!
– Бог с тобой, доченька, что ты этакое говоришь? Комар это, комарик! Зы-зы-зы … Поняла? Иди, спать пора! А я Шурочку укачаю.
Через час пришел с работы Василий.
– Слава Богу, а я думала, не случилось ли чего.
Василий молча передал ей четвертинку настоящего белого хлеба:
– Вот угостили, отдай завтра Катьке с молочком.
– А сам-то есть будешь?
– Нет, картошки поел, что с утра заворачивала, да кипятком на собрании поили с сахарином.
– О чем говорили-то?
Василий замялся, пытаясь как-то смягчить тяжелые новости, но, наконец, решился:
– Корпус пленных чехов и словаков восстал недавно, в мае. Им разрешили покинуть Россию, дорога – через Сибирь и Дальний Восток. А только выступили они против новой власти, и оружием их кто-то уважил.
– И что много их, Васенька?
– Да немало. Белогвардейцы местные присоединяются, бандиты. А меня слышишь, Тая, мобилизует новая власть.
– Что делает?
– Призывают, значит.
– Куда?
– Окудыкала. Куда-куда? В Первый Уральский железнодорожный батальон, на бронепоезд. И ведь что интересно, для поезда этого сами металл-то и отливали.
– Когда? – только и смогла прошептать Таисья, враз осипшим голосом.
– Завтра. Но я забегу еще: паек обещали выдать, занесу, – притворно бодрым голосом говорит Василий, не замечая, что слезы давно бегут по кирпично-красному лицу, оставляя темные бурые полосы. Так же темно было у него и на душе: «Лапти детям сплел, лето-осень с пуховым носком проходят. А зимой что наденут, ежели не вернусь? Валенки совсем прохудились». И, приняв решение, начал делать из своих больших детям опорки-чуни. Таисья поняла, что не чает муж домой прийти живым, заплакала, заскулила было, как щенок, но тут же взяла себя в руки: «Васенька, может, в последний их семейный день о детях думает, а ей ли раскисать?»
Где-то на киоте был огрызок химического карандаша, там же нашелся и листочек бумаги. «Живые помощи» где разборчиво, а где и не очень легли на бумагу. Тоненькая трубочка с молитвой уютно поместилась в подкладке пиджака. Зашивая, Таисья прошептала:
– Делай, Вася, что нужно, и будь что будет.
***
Утром 5 июня 1918 года Василий скупо, как-то скомкано попрощался с женой (детей не велел будить) и отправился на предзаводскую площадь, где был сбор красного отряда.
Для Таисьи потянулись скудные, скучные будни, полные неизвестности. Ночи, однако, проходили «веселее». Чемпалиха, давнишняя Таина подруга, всегда все знавшая, посоветовала имеющиеся запасы продуктов закопать в подпол, а то и в огороде. В разные места. А однажды прибежала, взволнованная, вместе со слепым отцом:
– Таюшка, слышала? Белочехи Екатеринбург взяли, на Челябинск идут, наш завод не минуют. Режь порося, соли – да в погреб на лед, а сверху досками закрой, землей закидай.
– Да вы с ума спятили! Поросенок-то еще чуть ли не молочный.
– Дура-девка, делай, что говорят! А то беляки ведь все сожрут. Кур-то бы в клеть да и под баню, а майку давай в лес сведем на пасеку к Михеичу. К нему не доберутся. Мы свою Зорьку сегодня ночью поведем.