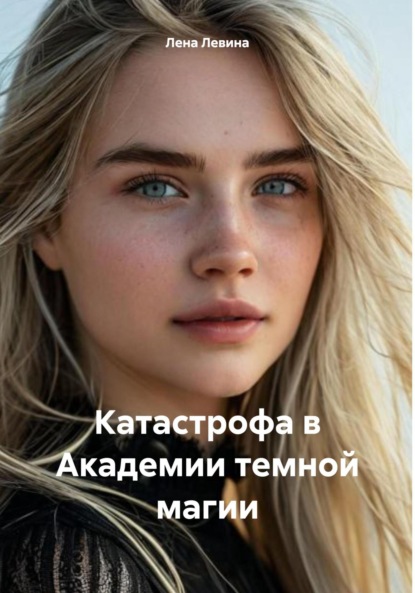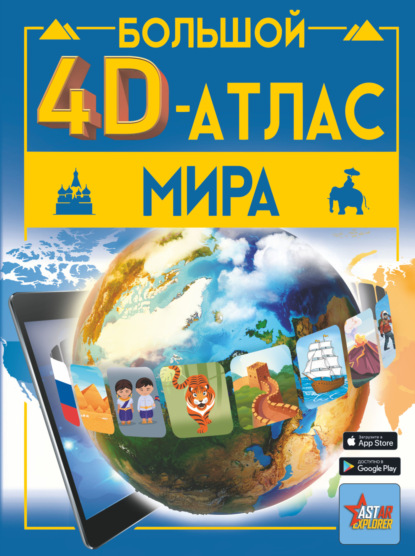Солнце идёт за нами

- -
- 100%
- +
– Нет, с коровой я не расстанусь: детей-то чем без молока кормить буду? Да и телушку куда деть?
– Ну как знаешь, а мы уж и картошку сверху осотом да травой сорной закидали, мол, не окучивали – ничего и не выросло.
***
Огород у Семёновых был знатный: Устинья в свое время пожадничала на землю – двадцать пять соток давали беженцам с Волги – все и взяла. «Земля-мать прокормит», – говаривала она.
… Как откроешь задние ворота, сразу наткнешься взглядом на ровные длинные ряды картошки (десять соток засаживали, в хороший год по двести ведер крупной в подпол опускали), слева мелочь: кудрявятся морковка и укроп, лук-пырей упрямо тянется кверху, листья свеклы и турнепса соперничают яркостью цвета и мясистостью, здесь же редиска и салат (по три урожая за лето снимали); за баней – две солидные грядки с капустой и тыквой и, вызывавший огромную зависть соседей, – парник, высокий под стеклянными рамами.
Слева «сад»: до колодца растут деревья для души: «золотой дубок» – так в шутку называли яблоньку-дичок за то, что ее плоды даже коза не ела, – но зато цвела она удивительно: одновременно белыми и розовыми цветами; лепестками, бывало, были усыпаны и соседские огороды, за красоту и держали ее, не рубили. Черемуха тоже удивляла размером кистей и резким приятным запахом, а уж черных крупных ягод было столько, что и листьев порой не увидишь. Соседи всегда приходили обирать (кому на пирожки, а кому и от поноса). За колодцем расположились четыре ирги с ягодками-кувшинчиками, их всегда ведрами сушили на пироги.
В конце огорода была полянка, где без всякого порядка, переплелись колючие ветви красного крыжовника, мелкой смородины, лесной запашистой малины. В углу, у забора, рос небольшой тополек, он заменил собой огромный тополь, срубленный соседями Боровыми (те посчитали, что дерево «застит» посадки, затеняет их клубнику). Но тополь Устиньей был посажен не зря: он тянул воду, осушал и соседские огороды, так как у Семеновых надел был на взгорочке, а у них – в низинке. Пожалели Боровые, что тополь срубили: часть их огорода превратилось в болотце.
В большом некрытом дворе располагались «хоромы» – стайки для скота, по размерам они не уступали избе. В самой удобной, теплой, с оконцем и деревянным полом, жила Майка, корова плотная, мясистая. Соседи говаривали: «Не по хозяйке корова. Тая – кожа да кости, а Маечка-то видная, как «царица». Молока давала «царица» немного, зато половина, как постоит, становилась сливками, жирными, желтыми и густыми, как масло. В «апартаментах» похуже хрустели капустными листьями две козы – Катька и Манька, а совсем уж в необустроенной «худой» стайке жил ложеный боров, небольшой поросенок, купленный у цыган как свинка. Под навесом, спрятавшись в сене, дрожали кролики, а по двору важно ходили шесть пестрых приземистых куриц и длинноногий драчливый петух по кличке Грязнов. Имечко он получил за «подлый» нрав: любил подкрасться сзади и щипнуть за икры, а то и пнуть своими желтыми крепкими ногами и острыми шпорами. Но куры были им премного довольны, за то и терпели поганца …
И вот теперь все хозяйство было порушено, как предсказывала Чемпалиха. Нет, даже гораздо хуже. Молодая картошка, с куриное яйцо и меньше, выкопана, сочная зеленая ботва, кое-где еще с нежными синеватыми цветочками безжалостно втоптана в грязь. Морковь, тонкая как спица, выдернута и брошена здесь же за ненадобностью, вся мелочь перерыта, и только уцелевший кое-где пыльный лук упрямо тянул вверх свои перышки. Парник, с таким трудом и за большие деньги возведенный два года назад, смотрел пустыми глазницами рам, а осколки стекла весело поблёскивали на солнце. Не тронули только капусту: она была еще совсем крохотной…
«Хоромы» пострадали меньше: шустрый Антип, завидя погромщиков, увел Майку в лес и сидел в неглубоком овражке совсем близко от дороги, гладил Майкин бок и шептал: «Молчи, Маенька, молчи». И слезы ребенка капали на подрагивающий красно-бурый круп коровы. А вверху, на дороге, слышались мычание, блеяние, русская и нерусская речь, крики, крепкая ругань, а иногда выстрелы.
Коза Катька сорвалась с привязи, взлетела на пологую крышу сарая и металась там сама не своя от страха – меткий выстрел бородатого чеха прекратил ее мучения. Кролики были заблаговременно спрятаны на полатях. Боровок просаливался в погребе, переложенный крапивой. Ну а телушка – первогодок, зарезанная и расчлененная, уже варилась, наверное, где-нибудь в солдатских котлах. Куры почти не пострадали, лишь одну затоптали в воровской суете, остальных Грязнов увел куда-то и только, когда все стихло, привел своих «жен» на родное подворье. Среди пестрых несушек красовалась одна, высокая, на ножках, белая курица, неизвестно чья: в их околотке таких не водилось. Но спасшаяся живность не слишком радовала Таисью: «Чем кормить скотину? Куда ее прятать, если снова придут? Как дальше жить? Когда это все закончится? Вернется ли Василий? А если он уже неживой?» Отчаяние подкатилось к горлу, сдавило его железными тисками, дышать стало нечем, в груди что-то нестерпимо зажгло, отдавая болью под обе лопатки, и черная муть потащила ее куда-то вниз. «Дети? Дети! – вспыхнуло в ее потухшем сознании. – Она должна их вытащить из этой темной глубокой реки».
Очнулась она на третий день. Около постели сидели дети и смотрели на неё немигающими глазами: голубыми – Сашенька, серыми – Катенька, темными – Антип и огромными синими – падчерица Любонька, на руках которой таращила глазенки Шурочка, да еще круглыми желтыми, в золотистых крапинках, – рыжая Чемпалиха.
– Очнулась, болезная? – затараторила соседка. – С чего это ты разлеглась? Погрома испугалась? Это еще что? А людей брать будут – совсем помрешь? На-ко попей компотику и бульонцу, оно и полегчает! Рука-то левая шевелится? Да? Добро, добро, встанешь, значит.
***
Таисья проболела до осени. За хозяйством и детьми присматривала подруга, а за больной ухаживала Любочка. Таисья смотрела на нее, и что-то сжимало ей сердце. Нет, это была не боль, а стыд и запоздалое раскаяние. Сколько она недодала этой девчушке! А ведь Любонька такая славная, никогда ничего не просила, не требовала, работала день и ночь: и за скотиной ходила, и как нянька с ее детьми водилась и недосыпала, и на огороде надсажалась. А в ответ? Ну да, Таисья никогда не била ее, даже не ругала, но ведь и не хвалила, не приласкала ни разу, одевала в последнюю очередь, да и щи наливала после остальных. И повинуясь какому-то порыву, притянула к себе Любоньку и погладила по русой голове. А та неожиданно навзрыд, горько, нет, не заплакала даже, а завыла: «Мама, мамонька». «Первый раз, впервые назвала меня мамой. А раньше как называла?» – нет, не может вспомнить Таисья…
Она была еще слабой и не вставала. Может быть, это и к лучшему: после погромов начались репрессии среди населения. Расстреливали семьи красноармейцев, большевиков, рабочих и мещан, заподозренных в сочувствии новой власти. А потом и вовсе нашли партийное подполье и расстреляли всех его членов: Палкина, Ермакова, Бабикова, Бахтинова и многих других. Правда, в Шуранке брали меньше, да и тех почему-то отпускали со временем, да и облав и погромов больше не было. Люди терялись в догадках: «Вон у Семеновых Вася на бронепоезде, у Чемпалихи сын – красный командир, молоденькая Верка Сафронова недавно вышла замуж аж за питерского, тоже какого-то командира. У Боровых два сына – в красных… Да если копнуть поглубже, все так или иначе с красными повязаны. Но тишина…» Ответ как всегда принесла быстроногая Чемпалиха, которую переименовали в Весточку. Так и стали их семью называть по-улочному – Вестины. Постучавшись по обыкновению поздно ночью, она пробасила:
– Ой, встала уже, горемычная? Молодец! А я узнала такое, словами не передать, пером не написать, про Никифора, про репрессии.
– Да говори толком, – перебила ее Таисья, – я и слов таких мудрёных не знаю.
Чемпалиха оглядела спящих в одежде детей, узлы, пустой иконостас, рюкзак, мешок с сухарями, бутылку с молоком, дробовик, прислоненный к косяку дверей, и сказала ехидно – облегченно:
– Бежать на Половинку готовитесь, ежели чего?
– Я детей замучить не дам! Пусть ребята с Любкой в лес бегут, а я стрелять стану, задерживать иродов.
– Это прикрывать называется, – самодовольно поправила Чемпалиха, – только побег отставить, не будет такой надобности.
И довольная произведенным эффектом продолжала:
– Никифор, околоточный, то ли списки какие-то подменил, то ли наплел, что мы де все староверы, прежней власти держимся, оружие брать за грех почитаем. Ну да ты знаешь Никифора, недаром его Соловушкиным прозвали, – такого наплел, что все поверили.
– Верно, ли говоришь, Татьяна?
– За что купила, за то и продаю. Ну ладно, Таисьюшка, мне еще в семь дворов эту новость нужно разнести.
Но на следующий день, когда, успокоившись, Таисья со старшими детьми пошла в лес за дровами, в их дом пришла беда. Вошла она вместе с молоденьким белочехом со смешным именем Коржик.
– Шинель ваша или может знать чей? – спросил он на ломаном русском языке оставшихся домовничать оробевшего Саньку и малолетнюю Катьку да еще двухгодовалую Шурочку, сидевшую в качалке. И уж так понравилась та шинель Сане, что, не задумывалась, сказал:
– Да похоже тятина, – думала выменять ее на хлеб или носить самому на зависть всем ребятишкам.
Улыбка сразу сползла с лица солдата, он что-то крикнул в открытые двери и за ухо потащил Саньку к воротам. И несдобровать бы Семеновым, но уж видно Казанская заступилась за мальчонку: к ним в ворота входил Никифор. Вмиг оценив ситуацию, он грозно крикнул:
– Отпусти сына, полудурок!
И оттолкнув плечом набежавших солдат, спросил:
– Почто в моем дворе озоруете?
– Да вот пацанёнок шинель опознал.
Тогда Никифор взял шинель и хотел ее примерить, но она была явно на 3-4 размера меньше, и он грозно, как в былые времена, заорал:
– Я царю околоточным верой и правдой служил, а вы моему сыну ухи обрываете! Да я вас в капусту порублю…
Белочехи растерянно запереглядывались.
– Да я знаю, он и вправду околоточный. Мы с ним у заводчика Губина встречались, – вдруг, улыбаясь, сказал какой-то офицер, смутно показавшийся Никифору знакомым. – Такого медведя разве забудешь? Идемте дальше.
– Спасибо, ваше высокоблагородие, – вытянулся во фрунт Никифор.
– Пустяки, – махнул рукой офицер.
Как только ворота закрылись, Никифор понес обессилевшего Саньку в избу:
– Мать подождем, а то забоитесь.
В этот момент в избу вбежала, с трудом переводя дух, Таисья. Прижав Санечку и Катю к груди, она только и смогла вымолвить:
– Спасибо, Никифор, а то мне Чемпалиха сказала, что Саньку расстреляли за то, что Вася у красных.
– Не бойсь, значит долго жить будет малец, – и, вздохнув, добавил. – От Анны ничего не слышно?
– Ничего, милый, ничего!
Ровно год прошел, как уехала Анна. Я вот подарок принес вам – мятных пряников и кружку глиняную с маками. Сам делал, хотел Анне подарить, да постеснялся. Возьми хоть ты, Таисья, Кате кашу подавать. Кружка-то с крышкой и с ручкой удобной.
– Дай тебе Бог, – поблагодарила Таисья. – Вот с Анной пара была бы славная!
– Видно не судьба!
Глава 7. Никифорова церковь
Уже десять месяцев стояли белочехи в заводе, периодически выгребая остатки съестного. Особенно страдали Шанхай и станционские: эти районы считались большевистскими. Шуранке было полегче. Никифор организовал что-то вроде комитета взаимопомощи. Каждый делился с соседом чем мог. Вот как-то пришел и к Таисье:
– У тебя полотнянка с детишек осталась поди?
И одеяльце я сермяжное, желтое помню… А то Полина родила, а завернуть сосуна почти не во что.
– Какая Полина? Не старого ли Никитича дочь?
– Она самая!
– А разве она замуж выходила?
– Не успела. Алексея-то ее в красные как раз летом забрали.
– А Никитич-то знает, что дедом стал?
– Так Полинка, когда еще на сносях была, все рассказала отцу, призналась.
– А он что, не пришиб девчонку?
– Нет. Только спросил Никитич, по любви или так получилось. Если по любви, то и греха нет. Бог даст – война кончится, тогда и обвенчаются, а пока вдвоем будут крестьянскую косточку воспитывать.
– Ну и ну, – дивилась Таисья, собирая узелок с бельем и разным детским прибором.
Обернувшись, Таисья обомлела: Никифор из огромного рюкзака достал и поставил на стол литровую банку меда, мешок пшена, здоровенный кусок сала, две пригоршни мятных пряников.
– Откуда такое богатство? – удивилась она, мысленно прикидывая, сколько кулешей можно сварить из такого количества продуктов.
– Вы с Любкой спать не ложитесь, я еще пять ведер картошки принесу. А вы уж меня проводите, поплачьте, как по русскому обряду полагается, а то больше некому, – сказал и широкими шагами вышел за дверь.
Весь день мать с дочерью строили предположения, мучились в догадках, что бы эти слова значили.
***
Когда Антип с Никифором перетаскали в подпол всю картошку, околоточный, сунув Антипке горсть карамелек – голышей, сказал:
– Ты, Антипка, иди-ка ночевать сегодня к Митьке Солдатову, вы ведь с ним не разлей вода, а то болтлив ты не в меру, – и выдворил немного удивленного парня на улицу.
Затем на столе появилась бутылка самогона, вареное мясо и картошка, сало, мятные пряники и кулек прозрачных мелких карамелек. Жестом пригласил за стол обеих ошарашенных женщин и начал неторопливо рассказывать:
– Дед мой из башкирцев-кинчаков происходил. Они здесь испокон века жили. По имени одного из них Шурана, может, и назвали этот конец Большого Уфалея. Смелые люди были и дружные. Деда моего прозвали Аёв, медведь значит. И не зря: крепкий, высокий, быстрый, охотник, меткий и удачливый. И не было такой башкирской девушки, которая не мечтала бы войти хозяйкой в его дом. Но полюбилась ему русская – Анастасия. Она однако не смотрела в его сторону. Пошел он тогда к попу креститься в русскую веру. Батюшка посмотрел на него и сказал, что неискренне тот хочет таинство принять, и не стал крестить его. Отказать-то отказал, но главную русскую Книгу дал и наказал читать каждый день. А как читать-то, коли Аёв русского языка не знал. Стал он к мастерице ходить, азбуку вдалбливать. И как только по слогам маленько понимать научился, начал читать Библию.
Чего не поймет (а почитай поначалу ничего не понимал), то у Батюшки спрашивает, а тот все объясняет по-простому, занятно так…
А вот как-то раз повез Аёв в Челябинск шкурки, меха продавать, и пристигла его метель. До того замерз бедный, что и помирать впору: просил метель уняться – шкурки ей кидал, ничего не помогает, метель пуще ярится. Вспомнил тогда Аёв про главную русскую Книгу и давай молиться. И вдруг откуда не возьмись мужичок подходит, зипунишка на нем старенький, а глядит ласково. Поднял одной рукой сани, вытянул из сугроба, лошадь погладил, успокоил и говорит:
– Хороша лошадка, да и ты, вижу, мужичок, не промах. Довезешь меня до деревни? Отвечает ему Аёв, что заблудился, не знает, в какую сторону ехать. Тогда незнакомец взял вожжи, сел рядом и начал погонять лошадь: «Но-но, милая!» Аёв стал узнавать места и смекнул, что с ним рядом Николай Угодник сидит. Обрадовался и говорит, что, мол, русскую веру принять хочет. Нахмурился мужичок и ответил загадкою: «Где родился, там и пригодился». Аёв не отступает, говорит, что любит русского Бога. Тогда старичок ему и отвечает сурово: «Вольному воля, а на Анастасии не женись. Такое тебе испытание веры будет – одно единственное». Сказал и растаял в голубых снежинках – будто его и не было.
Вскоре после этого окрестился Аёв, имя Николай принял, стал в церковь ходить, бедным помогать, многих от голодной смерти спас – всегда добычей делился. А тут и Анастасия в его сторону поглядывать начала, улыбаться стала. Укрепился Аёв, вспомнил слова суровые и отказал девушке. Раз отказал, два отказал, а потом не выдержал и женился. Родилась у них одна единственная красавица дочь. Тут Анастасия и показала свой нрав: то дошку ей беличью да пят смастери, то платье шёлковое, а то и вовсе жемчуга в уши. А еще что придумала: развесит сухое белье в палисаднике и трясет его, перетряхивает, а на вопросы соседей отвечает, что дух нерусский выветривает. В общем, мужа поедом ела, да и дочь не жаловала. Видно, завидовала ее красоте, частенько за косу таскала, а то и об пол головой била. Хотела девушка в монастырь уйти, да мать (тогда уже вдовая была) упредила ее – замуж дочку отдала, когда та еще до невестиных годов не выросла. Муж, отец мой, попался ей смирный, не обижал ее никогда, да не стерпелось – не слюбилось. С детских лет запомнил, как мать все молилась да плакала, и еще песни жалобные пела. Тогда и решил, что жениться нужно только по любви, чем так-то маяться. Запала мне в душу сестра твоя Анна, маленькая, как синичка. Так бы и положил за пазуху, грел всю жизнь. Совсем уже хотел на Базарную идти под матицею сидеть (сватать – примечание автора). Да тут грех случился: на вечёрке вдова Лариса Михеева все супротив меня встает, частушки зазывные поет, все в кругу меня выбирает, платком накрывает да целует. Ещё мы с парнями по маленькой выпили, мне кровь в голову ударила, утащил ее на сеновал. Всего-то одну ночку с ней был, а она уж и брюхатая. Ну что ж делать-то? Пришлось сватов засылать. Под венцом стоял туча тучей. Не любил жену-то ни дня, ни часу, ни минуточки. Да и у нее не отболело сердце по Андрейке-то: все вспоминала, как после свадьбы забрали его на Германскую, а она ни девка, ни вдова, ни мужняя жена. А к Петрову-то и вправду овдовела. Подружки ей твердили, что теперь ее только вдовец с кучей ребятишек возьмет. Вот и захотелось девкам нос утереть. А тут на вечёрке я и подвернулся. Но полюбить-то, оказывается, через силу не в нашей власти. И она согрешила, и я Бога забыл. Может, оттого потом и не разродилась она, померла.
Вот ведь люди разные, а грешат одинаково. Живут с оглядкой на других, хотят, чтобы и у них не хуже, а лучше было бы, чем у соседей. Гордыню свою никак не могут умерить. Вот вам, девоньки, и первый грех.
– Дяденька Никифор! А какие еще грехи бывают? – перебила его рассуждения Любочка.
– Много грехов-то всяких у людей. Вот говорят: «Друг познается в беде». Неправда это. Друг познается в радости. Посочувствовать, подсказать, поддержать и даже последнюю рубашку с себя снять мы сможем, а вот радоваться чужому счастью не умеем, не научились. Завидуем что ли?! Все из-за зависти-то и случается. Вот по грехам и житье нынешнее тяжкое.
– Да ведь революция за простых людей произошла, – перебила снова Люба Никифора.
– Обе власти безбожные, потому как через братоубийство к счастью не прийти. Зла за зло не воздавай. Хотел я вначале с белыми уйти, да передумал. Сами видите, что они в заводе сделали. Красных тоже ждать не буду, они еще больше бед натворят. И церкви порушат, думаю …
– Такому уж не бывать, чтоб Божий Дом испоганить, – возразила Таисья.
– То ли еще будет, поживёте – увидите. Какую власть над человеком ни поставь, толку не будет, пока человек свою греховную природу не исправит, пока Веру в сердце не поселит. Я вот вначале Анну хотел искать, а поразмыслил и понял, что недостоин ее, если своего счастья не дождался. Отсюда все беды мои и приключения. Хорошо, что бобылем остался. Ничего меня здесь не держит. Решил в лес податься, грехи замаливать наследные и свои собственные.
Я уж и балаган в лесу смастерил и припасу всякого в землянке зарыл. Самую Главную книгу взял, а триптих с Казанской Богоматерью вам на долгую память оставляю: Казанская пусть от болезней и голода сбережет, Николай – угодник в дороге хранит, Егорий Победоносец на войне охраняет, и Архангел Михаил пусть каждый день на вас поглядывает.
И перекрестившись на икону, пошел было к выходу, но заголосившие Тая и Люба повисли у него на плечах. Никифор засмущался, явно обрадовался и сказал торжественно:
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.