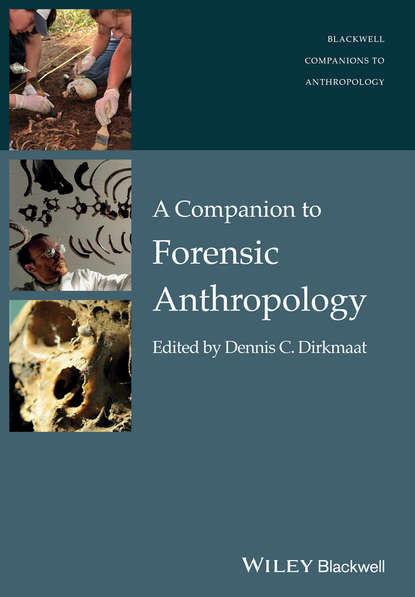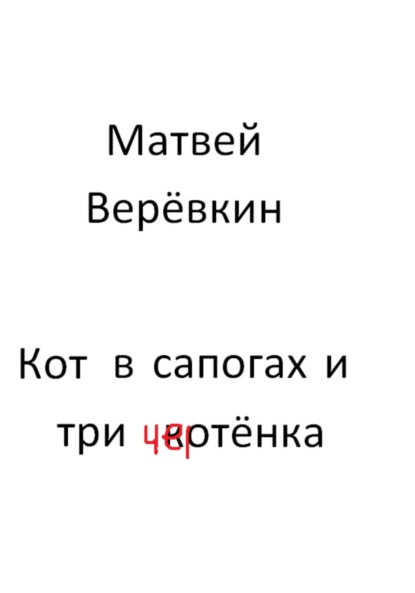История Будущего. Миры, о которых хочется мечтать

- -
- 100%
- +
В какой-то момент Дима получил контракт на усовершенствование московского городского ИИ-психолога. И с этого момента началось то, чего Виктор ждал уже давно. С одной стороны, преступность упала почти до нуля, а уровень удовлетворенности населения подскочил к невиданным ранее высотам, а с другой – психология стала религией. Сам же Дима – пси-патриархом. И это почему-то устраивало почти всех. Виктора удивляло то, что есть люди, которые видят в этом что-то ненормальное. Почему не всем мозги промыли?
Вероятно, любовь к власти оказалась сильнее любой терапии. И поздно опомнившиеся властолюбцы попытались сковырнуть всенародно любимого пси-патриарха. Организовали целую комиссию, чтобы расследовать… всю жизнь Димы? Найти какие-нибудь пятна на солнце, способные отвернуть от него паству? Что они собираются делать?
* * *– Я довольно замкнутый человек и ни с кем не общаюсь. Поэтому не могу сказать ничего о Дмитрии за пределами рабочей обстановки. Но как сотрудник… Это один из самых профессиональных людей, с которыми я работал. Ответственный, обязательный, надежный. Он все схватывал на лету и быстро меня… перерос.
По залу прошла волна одобрительных шепотков. Председатель комиссии недовольно поморщился.
– Благодарю. Вас вызовут, если у комиссии возникнут еще вопросы.
Виктор, не глядя по сторонам, покинул зал под аплодисменты. Видимо это сторонники непогрешимости пси-патриарха выражали свое одобрение. Те, кого пустили в зал заседания. Остальные же собрались на улице.
Толпа казалась бесконечной. Полиция перекрыла все улицы на несколько кварталов вокруг и прилагала все возможные усилия, чтобы предотвратить давку. Вероятно, таких массовых оффлайн-мероприятий не было последние лет сорок.
Виктор выбрался из толпы и шел куда глаза глядят, а люди шли ему навстречу. Бесконечный поток людей с горящими глазами и приятными, располагающими лицами. Это, наверняка, были очень хорошие люди. Вежливые, добрые, проработанные. Бессмысленные.
Возле Виктора вдруг остановилась машина. Он растерянно посмотрел на опускающееся окно и увидел Диму. Слишком повзрослевшего, явно пластика. Мужественные, благообразные черты лица. Были в них некая праведная строгость и безусловная доброта. Мудрый, проникающий в душу взгляд. Но в глазах все-таки сохранилось немножко пацанской восторженности. Виктор обошел машину, открыл дверь и молча сел на пассажирское сиденье.
– Спасибо, – секунд через десять сказал Дима.
Голос его тоже изменился. Стал глубже, басовитее, с приятной хрипотцой. Настоящий пси-патриарх.
– Не за что.
– Ты мог дать совсем другие показания, – заметил Дима. – У тебя были и возможность, и мотив.
– Не мог. Мы заключили сделку. А как говорили в мое время, за базар надо отвечать.
– Хороший принцип. Хоть и в странной форме. Дело действительно в том, что мы договорились, или ты сделал мне услугу? Если второе, то я в долгу не останусь.
– Никаких услуг. Ты мне ничего не должен. Но просто ради интереса… – Виктор покосился на собеседника, – как ты вообще допустил создание этой комиссии? Мог же всем мозги промыть, перевоспитать.
– Зачем? Каждый имеет право говорить то, что думает. Каждый имеет право сомневаться или отстаивать свои идеалы.
– Особенно если это ему советует психолог? – догадался Виктор.
– Пути осознания неисповедимы, – явно отточенным жестом кивнул Дима.
– Нет бога кроме психологии, и пси-патриарх – пророк его?
– Выходит, что так.
– Ты сам в это веришь? Реально считаешь себя… я даже не знаю, кем…
– Да, – спокойно ответил Дима. – Ты же видел, люди счастливы.
– Мне вот еще что интересно. У тебя где-то стоит установка, которая может, манипулируя частицами, менять сознание людей. Не отнекивайся только, ты же свои психологические чудеса не божьей помощью делал. Так вот, почему ты не вылечил Андрея Николаевича?
– Как ты и говорил, приемник поврежден. С органикой я ничего не могу поделать, к сожалению, – и в его голосе Виктору послышалась неподдельная грусть.
– И что дальше? Вот ты насадишь свою религию везде-повсюду. Твой улучшенный ИИ-психолог будет круглосуточно всех прорабатывать. Наступит мир во всем мире – и? Будешь править царством псевдо-разумных отражений? Тебя само это осознание не вгоняет в тоску? В депрессию? Или ты себе тоже личность подкорректировал?
– Разве плохо то, что люди счастливы? Что нет преступлений, зла, несправедливости? Ну… Почти нет. Потребуется еще сколько-то времени, чтобы масштабировать проект.
– А если там, на другой планете, наступит конец? Метеорит снесет их цивилизацию, например. И больше их частицы не будут колебаться. И передавать нам отзвуки их реальности. Тогда что?
– Мы превратимся в обезьян, полагаю, – спокойно пожал плечами Дима. – Это никого не расстроит. Просто вернемся к инстинктам. Если, конечно, мы к тому времени не построим установку, которая будет манипулировать сознанием всех жителей земли.
Виктор присвистнул. До него почему-то раньше не доходил масштаб проекта, который затеял Дима.
– Предвосхищая твой вопрос. Сейчас у нас хватает вычислительных мощностей, чтобы в случае катастрофы обеспечивать сознанием примерно тысячу человек.
– Даже с твоими суперкомпьютерами?
– Увы. Но я должен отметить, что если мы всего лишь чье-то отражение, то происходящее сейчас у нас должно происходить и у них? И значит, они тоже чьи-то отражения? Или у нас все-таки есть какая-то свобода воли? А значит, не все зависит от этих… Частиц в голове, а?
Ответов не было. Ни у кого. Они довольно долго молчали.
– А та экспериментальная установка? – вскинулся Виктор. – Которую ученые из МИФИ построили.
– Что с ней?
– Сколько человек она может… сколько сознаний моделировать? Поддерживать? Не знаю, как это назвать.
– Ни одного. Она может сильно повлиять на человека, изменить концентрацию частиц, сильно перекроить личность, но не более.
– А как давно они ее построили? Как это вообще произошло?
– Примерно год назад. Они вообще работали над сомнительным проектом, связанным с манипуляцией частицами, причем сами особо-то не понимали, чего хотят добиться. Странные. Но ты же знаешь ученых. Открыли совсем не то, что собирались.
– Они ходили к психологу? – холодея, спросил Виктор.
– Конечно. В Москве все ходят. Это обязательно.
– Ты как попал на работу в министерство?
– ИИ-психолог направил, а что? – Дима начинал догадываться, к чему клонит Виктор.
– Меня тоже. Прямо в тот же день, когда провалилась марсианская экспедиция.
– Ты не говорил… Я думал, ты там давно работал… Подожди-подожди, ты же когда-то давно руководил следственными…
– Ты сейчас повторяешь ту хрень, которую я вешал на уши комиссии. Я никогда ничем таким не занимался, – усмехнулся Виктор.
– Твое начальство тебе наверняка как-то…
– Я никогда не видел моего начальства. Распределенное министерство… Ну и бред, если подумать… Я только отчеты писал куда-то. Мне никто не говорил, что делать… Я просто… Делал…
Виктора вдруг затошнило. Дима как будто почувствовал это и протянул ему неведомо откуда взявшуюся бутылку воды.
– Есть ли в твоей личности резко противоречивые черты и несогласующиеся…
– Да я и есть набор противоречий и несогласований, Дима!
– Сейчас я прикажу поднять все данные по всей твоей жизни. Все что есть. И мы спокойно проанализируем…
– Нет данных до 2051 первого года, большой блэкаут! Как удобно, да? Я и есть тот человек, на котором использовали экспериментальную установку. Как ты там говоришь? Изменили концентрацию частиц? Сильно повлияли на личность? – Виктор истерично захихикал. – И прикинь, не, ну прикинь, сидел я такой на пенсии – и р-р-раз – возглавил следственную группу! Космос, ученые, сознание! Ч-е-его вообще?! Ты понимаешь, что получается? Московский городской ИИ-психолог какой схематоз провернул, а? Хотели снижение социального напряжения? На! Отключайте его, срочно! Вы траектории пересчитайте, ща окажется, что и магнитосфера тут ни при чем…
– Я дал ему мощности суперкомпьютеров и доступ к большой установке, – хмыкнул Дима.
– Смешно тебе?!
– То, что ты говоришь… недоказуемо.
– И неопровержимо, – почти шепотом сказал Виктор, вглядываясь в лицо собеседника.
– Даже если так. Посмотри вокруг. В конце-то концов… мы ведь стали лучше. Больше не будет страха, ненависти, боли.
– Дима, это конец. Неужели не понимаешь? Мы становимся лучше, да и вообще меняемся, только тогда, когда оставаться прежними невыносимо больно. Понимаешь ты, нет?!
– Наверное, в этом главная разница между нами. Ты считаешь, что боль – это учитель. Я считаю, что боль – это тюремщик, – он вдруг поднял руку и посмотрел на механические часы. – Тебе пора.
Юлия Домна. «Век кузнечиков»
Если вы спите и видите эти слова; если не можете спать, потому что видите эти слова; если они порождают в вас гнев или печаль, как побочный эффект циклического биоморфоза – осознайте себя.
Вы – часть миссии «Дельфийские максимы». Член экипажа ковчега в зоне Златовласки оранжевого карлика Глизе 370. Участник операции «Пигмалион» по двухуровневому изучению жизнепригодной поверхности экзопланеты Дикея.
Вы принадлежите к авангарду антропоморфного разума, познающего себя и вселенную. Вы коснулись вечности, превратив ее в измеримую историю своего вида. Вы – ученый и страж, мудрость и умеренность, вы принимаете свой страх и потому знаете, что слова – лишь слова.
Даже такие:
«Дети не боятся. Дети не воюют. Дети – единственная форма человека, которую не уничтожает планета Дикея из зоны Златовласки оранжевого карлика Глизе 370».
* * *На одной сказочно красивой планете жили малыши и малышки. Так их называл Фарадейчик – голос, помещенный им в голову. Внешне малыши и малышки казались почти неотличимыми. Все были одного роста и схожих прямых линий. Все ходили в белых комбинезонах и не имели волос. Малыши и малышки других галактик могли бы удивиться таким особенностям. Но поскольку на сказочно красивой планете не развилось даже простых белков, к которым относился кератин, входящий в состав волос или шерсти, наши малыши с малышками не предполагали, что бывало иначе.
Чего им всегда хватало – это дел. Нарисовать карту запахов, разгадать тайну желе, поговорить с хрустальными оленями на языке карманных фонариков. И все надо было успеть, пока длился золотой день, который в сезон басовитых огненных ветров, кренящих планету на бок-что-дальше, убывал с невообразимой скоростью.
Когда в небе начинался пожар, Фарадейчик укреплял защитные костюмы, важно поясняя:
– Вечерний режим!
Облака загорались малиновым. Внутри них, на просвет, суетились готовящиеся ко сну микробы. Густой теплый ветер, в объятия которого днем можно было лечь, теперь и сам припадал к земле, вычерпывая из глубоких разломов фиолетовый туман.
Фосфин.
Фарадейчик говорил: фосфин ест легкие.
Когда небо становилось красным, а низины опасными, малыши и малышки погружались в многоколесные гусеницы и возвращались в трехэтажный домик на базальтовой пробке древнего вулкана. Вокруг домика радужным аэрозолем пыхтели трубы. Они росли из-под земли и были такими широкими, что объять их могли лишь десять малышей и малышек, крепко взявшихся за руки.
Говоря по секрету, малыши и малышки не боялись фосфина. Они ничего не боялись – такой прекрасной была жизнь на сказочно красивой планете. Малыши и малышки лишь смутно беспокоились о двух вещах: скуке и потерянном времени. Но Фарадейчик заправлял гусеницами и домиком, завтраками и послеобеденным сном, окнами, дверьми и зеркальными панелями, а малышам с малышками приходилось слушаться его. Потому что еще Фарадейчик управлял Колыбелью. А ее никто не любил.
Колыбель крала время.
Вот как это происходило. Раз в десять дней Фарадейчик выбирал кого-то одного и говорил:
– Пойдем. Сегодня ты спишь в Колыбели.
Малыш покидал общую спальню и отправлялся за красную дверь, которая открывалась только по воле Фарадейчика. Утром из-за нее никто не выходил. Тот, кто ушел в Колыбель, пропускал завтрак, а за ним выезд на гусеницах, парады гигантских медуз, танцы радужной пыли – и так много-много дней подряд. Представляете, как вернувшимся было досадно слушать про игры, которые так легко обошлись без них? Им-то казалось, что они провели за красной дверью одну ночь.
У Колыбели было только одно понятное свойство. Она исцеляла. Если фосфин добирался до легких; или живые озерные пузыри ошпаривал нерасторопных малышей; или они, не слушая Фарадейчика, сходили со свеженапечатанной тропы на непредсказуемую обочину – из Колыбели все возвращались обновленными. Новыми версиями себя.
В остальном Колыбель было неприятной тайной, и потому никто не спешил ее разгадывать. Но если бы малыши и малышки других галактик присмотрелись к удивительным делам, творящимися на сказочно красивой планете, они бы сразу заметили: кое-кто ходил за красную дверь намного чаще других. Особенно трое – Лебедь, Оберон и Кай.
Лебедь была очень доброй малышкой. Она с удовольствием отдавала свои призовые очки или находки другим малышам, если тем хотелось больше внимания. Проигрывать ей было так же радостно, как и выигрывать.
Оберон считался первооткрывателем. Настоящим авантюристом. Это он сходил первым с тропинок, замерял глубину сияющих трещин в земле, пробовал на горелые клубничные кристаллы, чтобы потом, под ворчание Фарадейчика, кашлять искрами три дня, но ни о чем не жалеть.
Кай отличался ото всех. Он Играл В Трудное. Но это случалось только, рядом появлялся электрокузнечик. Тогда Лебедь волновалась, что Каю холодно. Оберон думал, что Кая обездвиживал разряд. По ощущениям самого Кая, его действительно что-то касалось – но не снаружи, а изнутри. Оно пыталось отобрать его тело, мысли и чувства, и воспользоваться им как-то еще.
Фарадейчик признавался: он не знает, что происходит. Лишь предлагал быть к Каю внимательнее, чтобы однажды раскрыть секрет Тяжелой Игры.
Фарадейчик врал. Он знал, что малыши с малышками других галактик тоже, наверняка, сразу поняли. Кай боялся кузнечиков. Единственный из всех. Но поскольку ложь была питательным субстратом всей наземной части операции «Пигмалион», Фарадейчик делал то, на что его запрограммировали.
Сами Кай, Оберон и Лебедь.
Он заботился о них, как мог.
* * *Лебедь посмотрела вниз с края утеса, на поляну черного бархата и сломанных радуг. Огромный оранжевый шар плавился на горизонте, стекая густым жаром за пределы видимой топографии.
Дикея пела – сорока герцами. Псалмом, но без смысла. Посох Лебедь отвечал той же частотой. Лебедь наставила навершие на ряд черных слоистых камней, разбросанных по утесу, и принялась искать сердцебиение. Она вела посохом, зная, что невидимые лучи его пронзали насквозь их базальтовые жилы, кристаллические решетки, многомиллионную историю образования. Наконец, внутри одного из камней, в ответ на лучи, вспыхнуло синим.
– Фарадейчик! Еще одно яйцо! Сюда!
На вершину утеса взобрались грузовые пауки. Один из них перевернул и положил потухший камень себе на спину. Лебедь увидела внутри него стеклянную жилу. По ее поверхности бликовало небо и стая плывущих над утесом гигантских медуз. Лебедь подняла голову. В медузах разливалось электричество – многочисленные грозовые вспышки ткали покатые купола. Вспышки порождал ветер. Он гнал медуз в сторону заката. Еще выше, совсем точками, Лебедь увидела воздушные шары. Их каждый день запускал Фарадейчик, чтобы «небо знало».
На поляну внизу зашло стадо серебристых оленей. Их окружал туман морозной прохлады, синхронные шаги выбивали искры бирюзы. В прозрачных фрактальных трубках на головах струилось то же электричество, что и в медузах. А еще – данные. Ожидающие обработки биты. О том, как Лебедь собирала наверху камни, а теперь снова смотрела вниз.
– Вот ты где! – услышала она голос за спиной.
На утес, помогая себе посохом, взобрался Оберон. У него одного был широкий пояс «всякой всячины» – им же придуманный и смастеренный Фарадейчиком после долгих-долгих уговоров.
Сейчас все шлевки и кармашки были забиты камнями. Лебедь навела посох на пояс Оберона, и тот вспыхнул синим.
– Вы обвиняетесь в контрабанде драконьих яиц! – рассмеялась Лебедь.
– Это не то, что ты подумала!
Оберон бросил посох и подошел к Лебеди. Вытащил из кармашков два маленьких гладких камушка.
– Смотри! Ну, то есть – слушай!
Он ударил камень о камень. Лебедь замерла. Ей почудилось, что она видит вибрацию, исходящую от места удара – таким густым и ощутимым физически оказался звук.
Оберон довольно пояснил:
– Это до-диез.
– Откуда ты знаешь?!
– Просто знаю. Здорово, правда?
Лебедь отложила посох. Оберон протянул ей камни, и Лебедь с воодушевлением ударила в них. Ее звук был другим, ведь она приложила меньше сил. Звук Лебеди хотелось зачерпнуть ладонями, чтобы умыться, таким чистым он казался.
Лебедь восторженно повернулась к Оберону. Тот уже глядел на оленей. Лебедь тоже мельком посмотрела на стадо, и поняла, что олени смотрели наверх.
На них.
Лебедь сложила камни в одну руку и с улыбкой помахала оленям. Потоки данных в их рогах обогатились зернистыми вспышками регистрации ее приветствия.
– Они такие хрупкие, – промолвил Оберон. – И удивительные. Вот бы жить с ними, а не в напечатанных комнатах.
– Фарадейчик говорит, что однажды они похолодеют еще сильнее, – задумчиво напомнила Лебедь. – Из-за отражателей. И нас.
Лебедь с Обероном взглянули друг на друга. Потом посмотрели далеко-далеко за медуз. Туда, где в структурированном математикой космосе гигантский рой парусов-зеркал ловил свет оранжевого шара и возвращал на поверхность Дикеи, накрывая ее, как одеялом, приумноженным теплом.
– Думаешь, – начала Лебедь, по-прежнему глядя в небо, – сегодня мы правда собираем драконьи яйца?
– Какая разница, – улыбнулся Оберон, – пока мы вместе и это весело.
Вплетаясь в гул Дикеи, ветер принес со склона вскрики:
– Кузнечик! Вон там! Скорее, зовите Кая!
Лебедь с Обероном переглянулись и тут же побежали к остальным.
Все, кроме Кая, любили кузнечиков. Те переливались, как рассвет в капле дождя. Когда прыгали, сыпали трескучими синими искрами, и те рисовали в воздухе призрачные дуги, повторяющие траектории прыжков.
Когда Лебедь с Обероном спустились, на середине склона уже образовался круг. Кай стоял по центру и смотрел на кузнечика, пока все жадно смотрели на Кая, пытаясь разгадать секрет его Игры.
Кай шагнул к кузнечику, но все видели: воздух для него потяжелел в сотни раз. Мышцы стали каменными. Он будто толкал невидимую стену из скуки и украденного времени, усиленных в тысячу раз. Эхо его внутреннего напряжения сковало и остальных, прихватив горло крепче фосфинового спазма. Никто не видел дракона, которого Кай пытался одолеть, но все видели битву, и для нее не находилось слов. Кай потел, Кай дышал, Кай убеждал себя в чем-то. Затем подходил к кузнечику, брал его в дрожащие руки. А когда отпускал за пределы круга, все с ревом набрасывались на него, хохоча, будто от хорошей шутки, плача, как от царапины в глазу. Никто не понимал, что за оглушительный пузырь лопался внутри, когда у Кая получалось. Но все хотели обнять его, и обняться друг с другом, и целый вечер жарко, запальчиво обсуждать, как Кай делал то, Что Не Хотел.
Лебедь тоже смеялась и обнимала Кая. Она думала, что Дикея прекрасна, но они – все они, вместе, рядом – чуточку прекраснее.
А ночью Кай ушел в Колыбель.
* * *Жизнь течет. Это не метафора. Она мутная, вязкая, наполнена готовыми микротканевыми модулями, которые переливаются из затемненного резервуара, консервирующего циклический избыток, в черный вертикальный саркофаг. Анабиозная пена внутри засеяна семенами нанороботов. Саркофаг гудит. Наноботы проклевываются и приступают к работе. Распаковывают модули, чтобы вживить в ткани, паяют нервные проводки, отмывают гены от метильных меток, будто грязное стекло.
Мышцы рвутся, раздуваясь. Печень, почки расправляют доли. В маленьком черепе растворяется заместительный биогель. С томительным скрежетом распускаются титано-никелевые нити. В движение приходят биокомпозитные пластины свода – все известные науке аналоги костей. Череп расправляется изнутри, надувается, как пластинчатый шарик. На затылке с висками пузырятся багровые волдыри. То, как голова возвращает прежний объем, чувствуется даже сквозь глубокую медикаментозную кому. От последствий такого обмана не сбежать.
Черепные импланты скрипят, охлаждаемые биогелем. Напор громоподобный. Он оглушает клетки, сами ткани, они отказываются жить. Капилляры мозга лопаются, но их снова пересобирают; сдаются, но тут же возвращаются в строй. Тело умирает, оживает, умирает, собирается заново.
Это называется «циклический биоморфоз».
Линька из человека в человека.
Когда прежние нейронные паттерны гаснут, в остывающем мозгу вспыхивает другое созвездие. Заслонка амнезии опускается, и человека в саркофаге коротит от потока сверхплотной информации, захлестывающей теменные зоны. Он – это он. Он – это не он. Он в двух местах одновременно, потому что является двумя разными формами человека. Мужчиной, рожденным в космосе, и мальчиком, которого не существует.
Биоморфоз окончен. Саркофаг выпускает наружу клубы влажного тепла. Мужчину тоже, но ему не уйти. Его главная темница – знание.
– Я часть миссии «Дельфийские максимы»… Член экипажа ковчега…
Он падает. Его подхватывает женщина в темном комбинезоне, с облаком рыжих волос у лица. Они оседают на пол, и женщина обнимает новорожденного мужчину, крепко-крепко, будто только так можно удержать вместе его агнозирующие клетки.
– …Глизе 370… Участник… участник операции «Пигмалион» по двухуровневому изучению поверхности…
Он говорит не с ней, а с голосом в голове, требующим полного осознания себя как доказательства вернувшейся зрелости.
Женщина подносит ко рту мужчины ингалятор и вынуждает глубоко вдохнуть. Тот затихает, расслабляется. Женщина кладет щеку на его голову и тихо качает. Потом поднимает взгляд на стену – такую же длинную, черную, как ряд саркофагов с биорезервуарами по обе стороны. Их так много, что хватит на несколько историй лучших людей.
В черную стену встроен дисплей. По нему струится текст.
«Дети – единственная форма человека, которую не уничтожает планета Дикея из зоны Златовласки оранжевого карлика Глизе 370.
Поэтому ваш подвиг – наш единственный шанс».
* * *Однажды на Дикею высадился наноробот, умевший делать крошечные молнии. Сжимаясь, он искрился; дрожа, точил базальт. Этот запрограммированный на отважность малыш имел цель: проронить семя новой крепости человечества на тысячу двести метров вниз под основание древнего вулкана.
Когда семя достигло нужной глубины, внутри проснулись микроскопические ткачи-нанофабрикаторы. Пропитав базальтовые волокна жидким сплавом, они стали плести каркас. У него была форма правильного многогранника, составленного из двенадцати равносторонних пятиугольников с активным шумоподавлением сорокагерцовых псалмов Дикеи. Это бы обеспечило полную изоляцию убежища – в дополнение к свинцовой пудре, виброизолирующим танталовым пружинам, квантово-стабилизирующим экранам и системе двух обособленных ИИ, во имя безопасности низведенных до функции калькуляторов.
На самом деле, нанороботы исчислялись сотнями тысяч. С развертыванием базы тоже получилось не сразу. Но поскольку в завершающей стадии терраформирования, обернувшегося катастрофой для всей миссии, на борту уже появились первые дети, эта веха человеческой истории нуждалась в новых сказках.
Кай знал, что двигал сюжет одной из них.
Он не понимал, сколько проспал после саркофага. Нейроимплант с доступом во внутреннюю сеть оказался принудительно ограничен. Кай сидел на кровати, выращенной из пола, в распыленном свете диодов, выращенных из потолка, и бездумно глядел на кресло, выращенное из стены. Ему хотелось что-нибудь подвинуть, поднять или перенести, хоть как-то снова воспользоваться собственным телом. Но единственный отчуждаемым от общего ландшафта предметом был ярко-оранжевый ингалятор с Релаксинолом-Т. Один вдох обещал пластмассовое спокойствие и недоуменную усмешку по поводу всего, что раньше причиняло боль. Кай смотрел на него тоже. Дольше, чем на кресло. Затем встал, оделся и направился в командный центр.
Он знал, что встретит там много людей. Проще, чем не работать, здесь было не дышать. Но когда Кай зашел в просторный зал, полный голубого свечения голограмм, задумчивых бормотаний и плавающих в воздухе графиков, он увидел того, кого не ожидал.
Рабочим пространством в командном центре было всё. Интерфейсы раскрывались в любой точке пространства. Поэтому женщина в темной вуали сидела прямо на полу, под огромном проекцией Дикеи в муаровом тумане магнитного поля.
– Лебедь…
Она на миг отвлеклась от видеозаписей, кружащих, как стайка прикормленных рыб. Дымчатая вуаль струилась у лица волнами, похожими на волосы, какие Кай помнил у Лебеди на ковчеге – черные, блестящие. Какие без остатка пожрал биоморфоз.